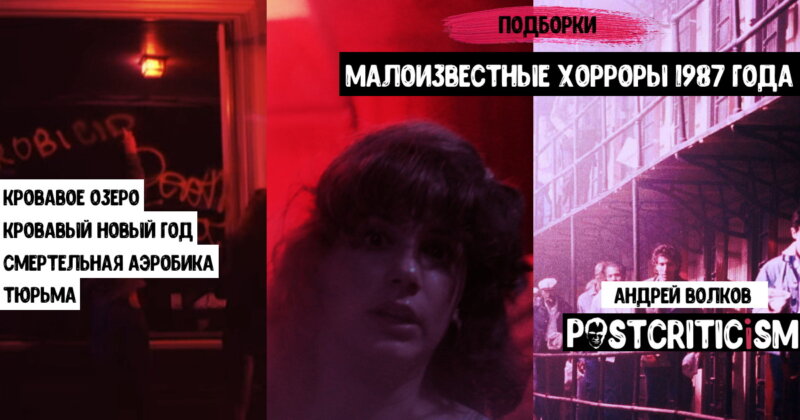Донни Дарко (Donnie Darko), 2001, Ричард Келли
Виктория Горбенко о “Донни Дарко”
Юный пироман Донни Дарко, обитающий вместе со своей среднестатистической семьей в среднестатистическом калифорнийском пригороде, обладает признаками параноидальной шизофрении, а потому ничуть не удивляется явлению зубастого двухметрового кролика, называющего себя Фрэнком и сообщающего благую весть о том, что ровно через двадцать восемь дней, шесть часов, сорок две минуты и двенадцать секунд миру придет конец. Последовав за странного вида существом, герой просыпается на поле для гольфа, а вернувшись домой находит там горстку федеральных агентов и самолетную турбину в собственной спальне.
Сложно сказать, что представляет больший интерес: прокатная версия «Донни Дарко» с ее мистической линчевской недоговоренностью или же вышедшая тремя годами позднее режиссерская sci-fi вариация, где занимательная нумерология сложилась бесконечностью временной петли. В любом случае, дебютанту Ричарду Келли удалось возвращением фильму нескольких вырезанных сцен добиться того же эффекта, для которого (забудем о кассовых сборах) родственному дуэту Вачовски, также неравнодушному к кэрролловским кроликам, пришлось снять еще две части матричной трилогии. Гораздо раньше Нолана, куда как меньшими средствами и, вероятно, абсолютно неожиданно для себя Келли удалось завлечь зрителя многозначительностью теории о путешествиях во времени и созданием параллельной, или, говоря языком фильма – тангенциальной (касательной) – вселенной, населенной живыми и мертвыми манипуляторами, чьи действия направлены на убеждение Проводника (он же главный герой) вернуть во вселенную основную некий артефакт, читай, ту самую турбину, чтобы предотвратить апокалипсис. Удивительно, но такая нехитрая конструкция смогла породить множество споров и глубокомысленных рассуждений. Вероятно, благодаря своей рамочности, оставляющей значительное пространство для маневра.

“Донни Дарко”, рецензия
Научно-фантастическая обложка здесь не только появилась чуть запоздалым откровением, но и вполне органично вписалась в пространство фильма, чего не скажешь, например, об инопланетном рудименте в более поздней «Посылке». Но прелесть «Донни Дарко», конечно, совсем не в этом. Скорее, в том, как здорово Келли удается передать гипнагогическое ощущение отроческой смуты. Все, что происходит с героем, будто бы нереально. Приглушенность, потусторонность звука, карусель вращающихся кадров, то плетущихся в рапиде, то несущихся с удвоенной скоростью – все это создает эффект отстраненности, превращает героя в постороннего наблюдателя за собственной жизнью. Подростку, чьи интересы естественно колеблются между сексом и сериалом про смурфов, сложно найти общий язык с окружающим миром, особенно, если он остро чувствует неидеальность последнего. Не носи благонравный одноэтажный городок название Мидлсекс, его вполне можно было окрестить Касл-Роком – глубина погружения в кинговские мелочные пороки вполне релевантна. Местный доктор Курпатов с экрана утрамбовывает поведение домохозяек в отрезок между страхом и любовью, а за стенами своего дома сладострастно изучает детскую порнографию. Образцовая матрона ожидаемо фарисействует, не считая понимание и снисхождение за достоинства. Психолог с умилительной серьезностью интересуется, что ты почувствовал, когда тебе не купили голодных бегемотиков. Здесь любое проявление свободомыслия истребляется на корню, а чтение книг вот-вот начнет происходить исключительно при температуре 451 градус по Фаренгейту.
«Донни Дарко» – это то ли запоздалое прощание с детством, то ли преждевременный амаркорд в формате Санденса; собственное путешествие режиссера во времени, в 1980-е, откуда он доставил в кинопространство множество артефактов, и речь совсем не о четырехтонной турбине
Единственным вопросом у интеллектуально не обделенного подростка остается: «А зачем носить идиотский костюм человека?» Естественным его желанием становится уничтожение такого мира. Юность вообще, подобно гриновскому Т., склонна ломать, чтобы просто посмотреть, что будет. Склонна считать разрушение актом творения. И Келли дает своему герою ровно двадцать восемь дней, шесть часов, сорок две минуты и двенадцать секунд на осознание того, что мир восхитителен, несмотря на свою очевидную паскудность. Единственное, чего здесь откровенно жаль, это итоговое опошление чудесной фаустовской отсылки. Донни влюбляется в девочку, как небезызвестный доктор – когда-то в ее тезку. Запросто можно опустить то, например, что у Гете Гретхен была одним из испытаний, уготованных Фаусту Мефистофелем, и символизировала бытие упоительно прекрасное, но вместе с тем ограниченное и несовершенное, от которого нужно было непременно отказаться, чтобы шагнуть в направлении ad astra. Для здешнего дискурса это сложновато, да и, сказать по правде, не нужно бы вовсе, но вот встраивание мотиваций главного героя в систему координат телевизионного шарлатана становится то ли весьма обидным просчетом, то ли признанием того, что площадная психология не столько неверна, сколько склонна втюхивать за деньги то, до чего каждый вполне способен додуматься сам.
Но да ладно. Отсылок в этом дебюте столько, что ими очень легко увлечься и забыть о самом главном. «Донни Дарко» – это то ли запоздалое прощание с детством, то ли преждевременный амаркорд в формате Санденса; собственное путешествие режиссера во времени, в 1980-е, откуда он доставил в кинопространство множество артефактов, и речь совсем не о четырехтонной турбине. Это ворвавшийся на скорости 88 км/ч ДэЛориан из «Назад в будущее», «Обитатели холмов» Адамса и «Оно» Кинга, предвыборные кампании на излете рейгановской эпохи и навязчивые телепроповеди. Кино это есть сама жизнь, в которой, кстати, тоже частенько приходится нырять не в ту нору в погоне не за тем кроликом. Это жизнь во всем многообразии смыслов и дилемм, где никогда не угадаешь, что важнее: трахнуть Кристину Эпплгейт или разобраться раз и навсегда с вопросом божественного вмешательства. Жизнь как сдвоенный киносеанс, когда после «Зловещих мертвецов» следует «Последнее искушение Христа». Безумный мир, в котором твой путь неясен, а одиночество – нормальное состояние, но все это не делает его бессмысленным. «Донни Дарко» – замечательное, пока еще лишенное мизантропии юношеское высказывание, полное упоением красотой мира и верой в человека, жертвующего собой во имя такой банальной, но такой единственно важной любви. В конце концов, здесь отпускается реверанс теории времени Хокинга, когда это еще не стало мейнстримом, а однажды увидевший маниакальную улыбку двадцатилетнего Джилленхола, никогда не удивится его безумному перфомансу в «Стрингере».