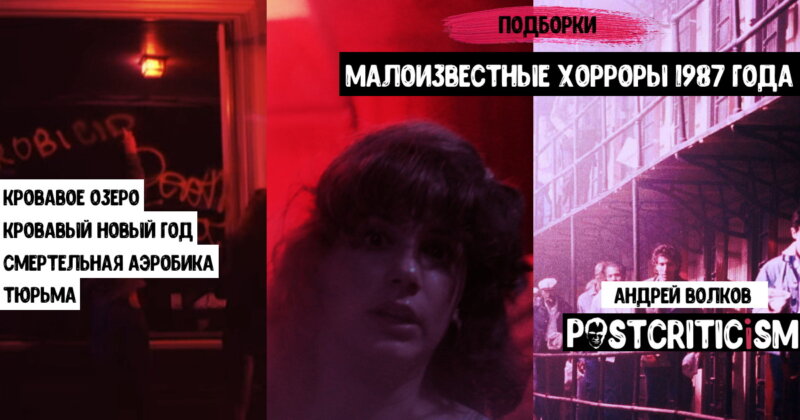Время застыло. Что в усадьбе девятнадцатого века, что на кухне среднестатистической советской квартиры, что на грузинских улочках. «Дрозд» – следствие, тщетная попытка с легкостью успеть все и сразу, оказаться за двумя столиками одновременно, с родителями и друзьями, там и тут, почти что по принципу россиниевского Фигаро. С тягостной попыткой гения творить музыку: часики тикают, время идет, партитура отброшена, начерчен только скрипичный ключ. Остановки; заглянуть в очередной окуляр, приблизить, отстраниться, увидеть, как течет размеренная жизнь вне спонтанного лавирования меж обещаний и нереализованных планов. Пациент без сознания. На грядущую смерть намекают маячки: ваза, что грозит упасть на голову из чужого окна, не выпитый яд, открытый театральный люк. Тревожно, но нет времени осмыслить предзнаменования.
Многих людей приходится повидать в этой одиссее, много девушек вокруг красивых, невозможно не заглядеться, а там и верная смерть под колесами машины. Замкнутый 24-часовой круг из дел и забот, играючи отбрасываемых друг за дружкой, мог прерваться лишь из-за случайности. Мелодия, рожденная где-то между душой и разумом, уже не прорвется сквозь мерный отыгрыш городского ритма. Часовой механизм запущен, шестеренки начали тереться друг о друга, секундная стрелка рванулась вперед, новая жизнь, новый отсчет часов, превращающихся в дни до их остановки. Что остается после? В материальном мире – крючок, прибитый к стене и кипа непрочитанных книг. На деле – воспоминания людей, знавших, что был такой парень Гиа, что мало уделял он времени каждому из них, но был славным, помогал знакомым и незнакомым, и не было в системе его действий корысти. И из этой коллективной памяти обретает плоть и кровь образ, и образ этот продолжает носиться где-то там, в лучшем мире. В литавру, может, и смогут пробить еще не раз, но не столь искусно, не скользя с легкостью по острию бритвы безответственности.
Два других героя вне времени и пространства стремятся если не к погибели, то к ощущению себя живыми через разрушающие поступки, вызывающие в глазах окружающих недоумение и жалостливое покачивание головой. Речь не о ритмически выверенной гонке, адекватной тиканью часов. Нет, это плавное движение между живописными колосьями травы на поле и пустыми холодными городскими улицами. Прыжок с обрыва в реку – последняя попытка проснуться. Разница в том, что в одном случае все закончится пробежкой по лугу на фоне рассвета, с надеждой на новую жизнь, которой вряд ли суждено сбыться, а в другом – осенним выкошенным полем со стогом сена. В этом стоге и найдет свое последнее пристанище в позе эмбриона Сергей Макаров. Движение прекратилось, все окутала ледяная тьма, и это страшно.
Для него существование превратилось в продолжительный полет в бесконечность. Сон вторгся в явь, ряд качающихся на качелях детей встал в строй на обочине дороги, ограняя механические поездки на автомобиле по дороге в никуда, словно на автопилоте, руководствуясь принципом: «Будь что будет». И счастливый голос Леонтьева, что на пластинке заливается соловьем, исполняя песню про «краски ярмарки», контрастирует с выцветшим пейзажем, на котором выгорает костер феллиниевской балаганной драмы. Если на лебедке не получилось почувствовать невесомость, то жизнь на земле утянет вниз и будет в тягость.
Со стороны – инфантильный герой, спонтанный, ненадежный, но до какого-то момента живущий, как и все. Семья, работа, любовница, дача. Но в его взгляде на жизнь видится акт возвышения над опостылевшей бытовой суетой. Выпадая из упорядоченного хода вещей, Макаров понимает, что мир вокруг диссонирует с внутренним метрономом бытия. Немного ребяческая возможность ехать, куда глаза глядят, пропадать, говорить что хочется, обижать людей и просить потом прощения, обещать исправиться и нарушать данное слово через несколько минут – отчасти маска, наносное ерничество как защитная реакция от несоответствия себя и времени. Пустые, длинные, серые улицы сменяются природой, медленно загибающейся, как и главный герой. Он не исконно русский «лишний человек» – он может найти свое место, просто не хочет. Лента Балаяна посвящена поиску, где, казалось бы, очевидные решения, поступки, совершенные потому, что так и должно быть, не поддаются систематике. Пляски на осколках собственного прошлого – пресловутая рефлексия, метания в разные стороны перед пугающим рубежом в сорок лет, когда вроде бы за плечами что-то должно быть, а, кроме дочки, ничего и нет.
Камера в роли стороннего наблюдателя держит дистанцию, следует за героем, чаще всего фиксируя его со спины в потоке мирской суеты. Все ключевые диалоговые сцены, несущие исповедальный характер для не чуждых Макарову людей, – отстраненны, в них герой витает где-то в другом измерении, поддерживая свое присутствие тем или иным словом и прерываясь на интимный вальс долгого прощания для героини Гурченко. Макаров постепенно теряет самого себя, отдаляясь от всего, так и не нащупав границ. Не встретившись с матерью, которую не видел пять лет, – остановит синяк под глазом да проведенная под открытым небом ночь. Не утратив собственного достоинства, выкрикивая «Ку-ка-ре-ку»: что под столом, что срываясь с лебедки. «Полеты» – неизбежный воздушный поток грез, магический реализм, пространство, в воздухе которого действительно есть что-то. С помощью музыки Храпачёва даже печаль преображая в надежду, а затем наоборот. «Ах как жаль, ах как жаль»: Янковский раскачивается над обрывом, объектив выхватывает общий план, группу танцующих людей, внешне довольных, но глубоко несчастных внутри, привыкших ощущать себя в плену забот и обремененных пустяковыми думами. Для кого-то счастье – всего лишь мирской ритуал, вроде поездки на дачу.
Если Гиа с легкостью парил с ветки на ветку, а Макаров летал, не отрываясь от земли и слоняясь по городу, то Михаил Васильевич Платонов из заросшего имения никуда деться не может. Слоняется локальная аристократия из коридора на веранду, затем на лужайку и обратно. День на дворе и в жизни, что-то пробьется сквозь пелену, взглядом через подзорную трубу, но только с наступлением сумерек произойдет пробуждение, от которого, впрочем, не будет никакого толка. Криками отзовется в уездной глуши осознание потерянной в череде однообразия жизни. Желание вырваться из плена обыденности, съедающей изнутри, проснется практически в каждом: то лозунгами о помощи крестьянам, то разговорами о равноправии. Только развлекающаяся диалогами о судьбах народа богема давным-давно разорилась, живя этим, интригами да кредитами, без которых можно было бы похоронить себя заживо от скуки. Вечер одного из сотен дней – зеркало вневременного положения вещей, когда разговоры остаются разговорами, а верхом совершенного станет переход с шёпота под лестницей на крики и нелепое, но столь органичное падение в реку, а идеалистическая попытка ворваться в завтра помешает крепкому сну и заставит отвернуться на другой бок. Платонов, как и герой Балаяна, понял, что не может найти себя в окружающей дворянской флоре, но эта мысль оказалась скорее затмением, чем прозрением. Он расшибся, набил синяков, надеясь что-то изменить в себе, но так ни к чему и не пришел. Оступившись, оперся на плечо супруги, клянущейся в любви, и пошел дальше, раскаявшись.
Разнообразие совпавших в этих картинах деталей не складывается в единую мозаику. Они выпадают из исторического контекста, десятилетие за десятилетием оставаясь созвучными духу времени. И нет смысла причесывать их под пошлейшую фразу «кризисе среднего возраста» или примерять к героям звание «лишних людей». Моменты в жизни, когда осознаешь несовпадение с окружающей действительностью, были, есть и будут. От этого никуда не деться, как и от тиканья часов.