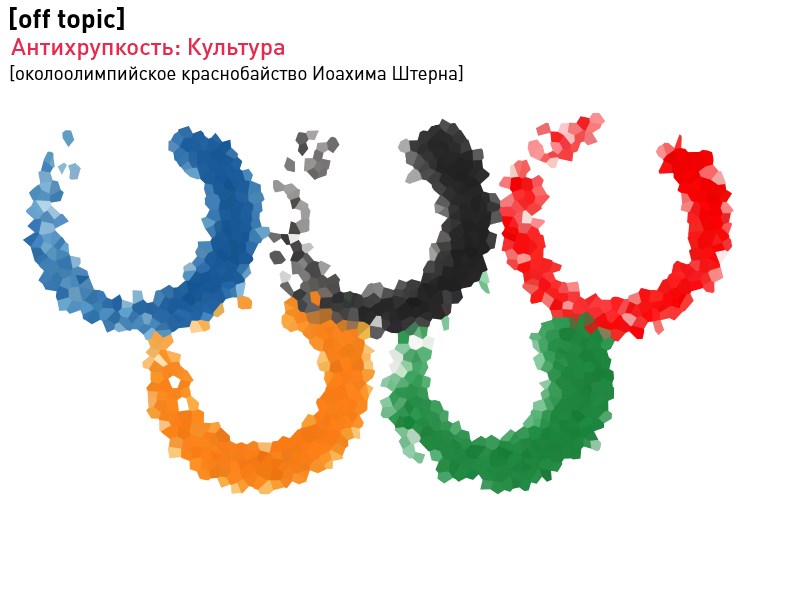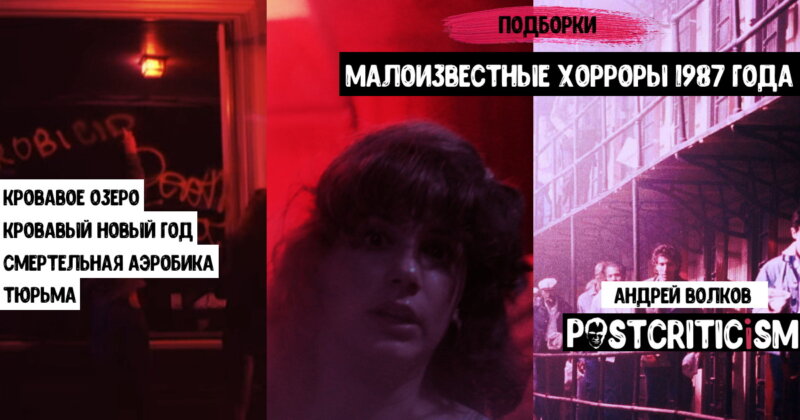Оставив на десерт свежее кино Мартина Скорсезе, Сергей Феофанов разминается, рецензируя церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи. Прикладная культурология и Нассим Талеб прилагаются
Вместо титров – панорама новеньких стадионов. Вместо вступительной музыки – исполненные энтузиазма скороговорки комментатора Губерниева и томный лепет его напарницы. Стадионы светятся, будто летающие тарелки, комментатор Губерниев вещает про наследие, помощь детям и вот это вот все. Приблизительно так начинаются «Сны о России», шоу диковинного размаха, полностью соответствующее лозунгу дизайнера Лебедева – и в части сроков, и в части дороговизны, и (что важнее всего) в части качества.
Вот обратный отсчет задушевным шепотом, вот спортсмены выходят на марш под бравурные ремиксы, вот механические лошади парят посреди священной весны неоновым мерцанием, а вот и сама девочка-сновидица – она улетит, но пообещает вернуться. Команданте Лукашенко показывает большой палец, сборная Бермуд выходит на парад в бермудах, группа «Тату» воет на мотив группы «Queen», а президент МОК, словно кот Леопольд, проповедует мир и согласие с высокой трибуны. А вот и прославляющий Отечество ролик про русскую азбуку – Байкал и космос, Кандинский и Малевич, Достоевский и «Ёжик в тумане». На букву «П» – периодическая таблица Менделеева. На букву «Ъ» – почему-то Пушкин. На букву «Т» – Толстой и телевидение. На букву «Я» – Россия. Идея, короче говоря, понятная – мы вместе. Мы такие разные, но все-таки мы вместе.
Далее по тексту кольца олимпийского дыма растают в воздухе и на сцене появится виновник торжества – тот самый человек, что уступил букву «П» таблице Менделеева. Кто-то хлопает, кто-то, кажется, свистит, затем играет гимн (поет монастырский хор, одетый почему-то в смокинги). Такой вот выставочный постмодернизм, соединяющий стили и эпохи. Не без китча, конечно, но это уж как водится (лондонские игры, например, тоже запомнились огромным количеством стереотипной халтуры – довольно будет сказать, что за знаменитый британский юмор там отвечал Роуэн Аткинсон). Тем более, что и китч получился симпатичным – надувной Китеж улетает в небо ласковым мишкой, слегка карикатурные славяне на рейве пляшут под медитативные костромские запевы. Ну а потом начинается самое интересное, и создатели шоу извлекают из рукава козырную карту великой русской культуры – есть тут и живопись (представленная главным образом русским авангардом), и музыка, и, конечно, балет, куда без балета. А где-то между строк – воодушевляющий мессэдж, склеивающий распавшуюся связь времен, соединяющий все лучшее, что было в истории страны, в более-менее связный и непротиворечивый нарратив.
Сто лет назад кинематограф был цирковым перформансом, сегодня это солидное и респектабельное искусство, которое дало миру целую кучу значительных авторов и любопытных идей
Словом, представление у команды Константина Эрнста получилось что надо, и пусть vox populi будет мне свидетелем – публика попроще радуется тому, что Россия снова всем показала, публика посложнее ликует оттого, что показали мы в этот раз не Кузькину мать, а достойно срежисированное зрелище, загнивающий Запад уважительно снимает шляпу, даже российские оппоненты Олимпиады были вынуждены сжать зубы и отпустить пару-тройку дежурных комплиментов. И эти комплименты, возможно, оправданы даже в большей степени, чем это можно сейчас представить. Не секрет, что неосоветская эстетика появилась на свет 1 января 1996 года, когда все тот же Константин Эрнст запустил «Старые песни о главном». Иначе говоря, именно телевидение в свое время выносило новые культурные ориентиры, те ориентиры, в которых и существовало зрительское российское кино нулевых, те ориентиры, благодаря которым появились на свет спасибо-что-живые Высоцкие, пропивающие глобус географы и легенды за номером семнадцать. Прошу понять меня правильно, это была славная эстетика, она питала новую российскую культуру последние полтора десятилетия, но нужно быть слепым, чтобы не увидеть, как родники советской ностальгии засыхают.
Цайтгайст требует от российской культуры чего-то нового – новому времени необходимы новые коды и новые смыслы. В этом контексте и стоит, наверное повнимательнее изучить тот образ России, который был нам представлен в прошлую пятницу. Образ России, в которой спутник уживается с Набоковым, а «Ёжик в тумане» соседствует с Империей. Вы можете, конечно, сказать, что я все усложняю и ищу в темной комнате черную кошку, которой там нет. Вы можете сказать, что бессмысленно осмыслять не только театрализованное представление в Сочи, но и современную культуру вообще – многие нынче думают, что современная культура не нуждается в осмыслении, что она просто существует, воспроизводя себя из себя. Вы можете сказать, что все подтексты мертвы, давным-давно мертвы, а критика, трогательно пытающаяся объяснить культуру, занимается, строго говоря, патологоанатомией. Вы можете, наконец, сказать, что искусство и шоу-бизнес сблизились до состояния категорического смешения, и этот процесс возвышает шоу-бизнес настолько же, насколько дискредитирует искусство.
Все это резонно, вот только есть и другие мнения. Нассим Талеб, к примеру, написал целую книгу про свойство вещей становится лучше вследствие стрессовых факторов. Он назвал это свойство «антихрупкостью» и снабдил этот неологизм ворохом занимательных примеров – от посылки с надписью «Кантовать!» до Лернейской гидры, которая имела счастливое свойство отращивать две новых головы взамен отрубленной старой. Так вот, культуру, конечно, сложно назвать штукой неуязвимой или эластичной – мы видим, как она меняется под действием внешних обстоятельств, мы видим, как она становится все более массовой и, как следствие, все более эгалитарной. Однако же я не стал бы говорить о хрупкости – сто лет назад кинематограф был цирковым перформансом, сегодня это солидное и респектабельное искусство, которое дало миру целую кучу значительных авторов и любопытных идей. Возможно, через сто лет респектабельным искусством будет спорт. В этом и проявляется та самая антихрупкость культуры – не развлечение подъедает искусство, а искусство расширяет свое присутствие, становясь все более и более демократичным.
Это, возможно, излишне оптимистическая точка зрения, но именно в этом вопросе я предпочитаю оптимизм.