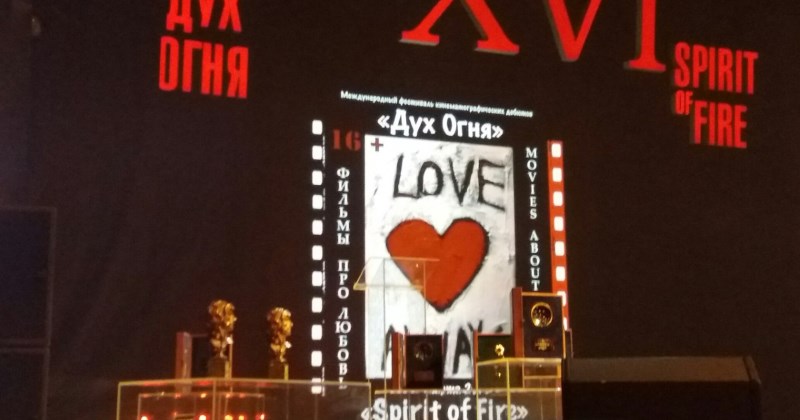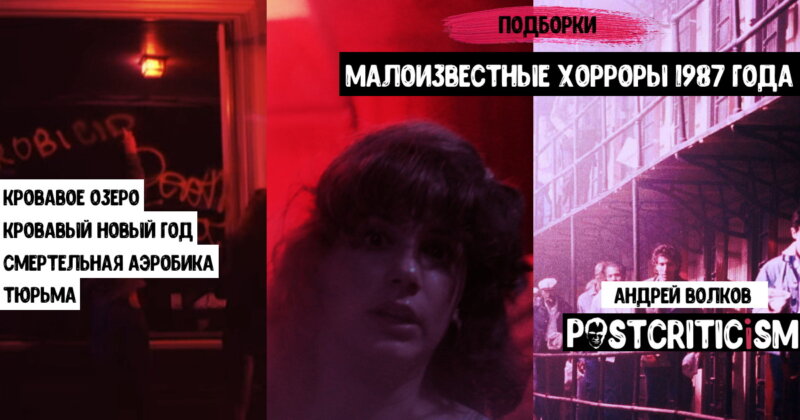«Сияние севера обрушится вниз»
Денис Виленкин и Антон Фомочкин обсуждают фестиваль “Дух огня” в Ханты-Мансийске
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
В начале марта прошёл шестнадцатый фестиваль кинематографических дебютов “Дух огня”, в снегах, в холодном Ханты-Мансийске. Солнце там в период затянувшейся зимы выглядывает, кажется, только для того, чтобы осветить путь до залов, где расписание полнится российскими и даже мировыми премьерами фильмов. “Черт нас возьми” Жан Клода Бриссо – насущный французский, которому отказали все фестивали ввиду даже сложно догадаться каких причин, магической кинематографичности что ли, не подразумевающей вмешательства остро-социальных форм высказывания. Эстафету у него принимает ещё более солнечный “Этой ночью лев спит”, проникнутый нежными начинаниями юных любителей кино, заявляющихся на порог дома Жана Пьера Лео. “Для съёмок фильма нужен сценарий. У вас есть сценарий?”. “Нет”. Ковыряя мысом землю, смотря на ветви деревьев, и на самого большого артиста, скорее всего даже не догадываясь о его львиной, царственной величине. “Напишите сценарий и возвращайтесь”. Консервативный король любит кино, для которого пишется сценарий и не очень понимает, как можно сыграть смерть, не прожив своего персонажа. Название отсылает к одноименной песне 90-х годов, и перевести его стоило скорее как “Сегодня ночью лев засыпает”, чтобы не произносить слово “смерть” в этом цветущем мире, где правит, несомненно, детство. А лев может просто уснуть – милый сынок, он просто уснул. Дети, воплощающие собой чисто синефильское бытие, ошивающиеся по улицам в бесконечной игре, как мальчишки из “Шуши” или более взрослые безобидные хулиганы из “Аккатоне”, приводящей у Нобухиро Сувы к тому, к чему приводят любого режиссёра прогулки по местам вдохновения, – к съёмкам. В очередном таком променаде камеры по красотам особняка найдётся бюст Людовика, Короля Солнце, в роли которого уже умирал Жан Пьер на протяжении двух часов. Так давайте он просто сыграет жизнь. И он играет, очарованный присутствием детских душ, забывая встать в нужный момент съёмок. Ко льву пришли посланники. И он дышит, как не дышал уже очень давно. Оставляя смерть мимолетным бликам на плёнке, а увядание яблоням во дворе.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Во глубине Сибирских руд сокрыто ощущение вечного, застывшего в воздухе Нового года, где маленькие полу-андерсоновские домики соседствуют с деревенскими, а на одной улице может оказаться деревянный забор и многоэтажная коробка. В Ханты-Мансийске все увешано гирляндами, застелено толщей ваты снега, а солнце морозное, осветив, как верно замечено, путь до залов, продолжает превозмогать серую пелену неба, которая светило неизменно прячет. Попав впервые, чем дальше, тем больше удивляешься окружающим тебя контрастам. Подумал, почему-то вспомнив об «Этой ночью лев спит» и озорстве раннего детства киношников нового поколения, тех детей, которые неизменно окружали зрителей в фойе во время дневных показов. Ученики школы искусств в отличительной форме существовали в своем мире, никак не ощущая присутствия большого кинофестиваля параллельно их жизни, сложенной из повседневных оценок, салок и заливистого смеха.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
Ребятня в фойе и коридорах “Центра для одарённых детей севера” действительно дополняла это бытующее ощущение вечного кинематографического движения. Когда покидаешь зал и встречаешь вереницу счастливых детских лиц, сложно бороться с желанием взять камеру, особенно, когда они красиво носятся между классными ван-сентовскими школьными дверьми, над которыми красуется надпись “Small hall”, а за окном и правда – снежные сказки Андерсена.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Так и дети в фильме Нобухиро Сувы обволакивают дремлющего льва своим присутствием, быстро приняв его появление как данность. Ведь единственным конфликтом остается поколенческое несоответствие «музыкального» в душе. Главный герой должен сыграть свою смерть, но априори это действие на экране выглядит как сон, что в конце и демонстрирует Лео, и это создает диалог с фильмом Альберта Серры. Поскольку они оказываются в плоскости одной темы, будучи кардинально разными по исполнению и степени условности. Интересно другое: зная, что будет происходить в оставшейся сцене к моменту возобновления съемок, актер заново переживает свои главные отношения с являющимся ему по ночам фантомом единственной настоящей любви. Подобная «предсмертная» агония находит выход в жанровом развлечении ребятни – главный герой исповедально наполняет их сценки собственной драмой. И, кажется, именно материал, отснятый на ручную видеокамеру ребенком, не только запечатлел величие льва, но и обессмертил его в истинном виде. И тут не столь важна игра в конфликт старого и нового, суетливого и степенного, это лишь ироничная констатация того факта, что само кино изменилось неузнаваемо, и будет меняться с каждым новым поколением. На этом фоне новая картина действительно значимого для французского кино автора Жан-Клода Бриссо как никакая другая пришлась к месту на фестивале «дебютов». Давно немолодой режиссер, заигрываясь с тем же хромакеем, очень походит на увлеченного дебютанта и это, конечно, прекрасно. Но я бы хотел поговорить об отрыве от этих картин. На фестивале мы наблюдали одну существенную проблему – многие фильмы становились заложниками либо формы, либо собственной концепции. Например, «Милла» в своем статичном фотографическом воплощении вынуждает актеров проживать запечатленные отрезки, и во второй половине этот метод рождает проблески искренности – во многом за счет непосредственности и непредсказуемости нахождения в кадре ребенка. Но сама форма искусственна и обрекает на существенные проблемы с темпоритмом.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
“Милла” Валери Масадян – дебют фотографа, со световыми ухищрениями, разбитыми стёклами, футболкой постапокалиптической игры “The last of us” на главном герое, свечами, создающими эту атмосферу изолированности чувств, поиска жизни в десоциализированных условиях. Где подобно цветку или жирафу, найденному героями в игре в мире после биологической эпидемии, обнаруживается возможность для незащищённого, но очищенного от каких-либо бытовых вмешательств искреннего выражения чувств. “Ой, жираф”, – воскликнет Элли в игре, и ждёшь этой переклички от “Миллы”, но бытовое побеждает молодую пару. Наверное, для взращивания чувства среди прекрасных книг и минималистичных условий жизни героям нужно быть вампирами из “Выживут только любовники”. Быт атавистически смещается в область не рутинного постоянства, ну а что им, живут сотни лет.
Кадр из фильма “Этой ночью лев спит” | Ханты-Мансийск, фестиваль “Дух огня”
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
«Милу» про себя прозвал «фильмом кроватей», по Масадян бытие ее белокурой героини это переплетение эпизодов, львиная доля которых происходит на простынях. Они картинно висят позади, их приходится заправлять или гладить на работе в отеле. По Кальдерону жизнь есть сон, пусть сладостным покоем будет наполнена и дрема Милы. Другое дело – то, как это показано; с подобными длиннотами сложно обращаться, в фильме это – часть концепта. Дом с крестами-решетками на окнах ужимается до комнаты или угла с перегородкой из книжек. Побочный внешний мир остается переплетением ветвей в отражении на стеклянной поверхности. Все остальное – декорация. И открытое пространство возле шоссе, и пристань за окном. Что уж говорить о предметном мире, даже мебель расставлена по интерьерным эпизодам для пущей напускной киногеничности. Будь в этой картине больше лаконизма она бы только выиграла, особенно не перебиваясь на инородную сцену в баре с ручной камеры (единственный эпизод сбивший эстетически меня с толку). Стоит объективу выхватить красные, осоловелые лица, теряется не только дистанция, которую держал автор со зрителем, теряется ощущение органического существования внутри кадра. Тем более, что герои прячутся от солнечного, дневного света, и самые интимные эпизоды происходят в мягком отсвете огней на свечках. Ведь для счастья здесь нужны только «двое»: она и закономерная смена мужчины на мальчика.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
Да, если бы кадры были короче, их художественная ценность была бы выше. Если бы форма или концепция не была такой самоцелью без привязки к повествованию, то, например, бытописание “Миллы” смотрелось бы увереннее: и сэндвич, положенный мимо тарелки, и Милла, работающая горничной, остолбеневшая перед “оазисом” – музыкальным номером в гостиничном номере. Эти сцены говорили бы более разборчивым языком образов. Но Валери везёт с красным пледом, в одной из сцен быт вытесняет поэтику из кадра, оставаясь при этом поэтикой. Плед, будучи вместилищем влюблённых, их шалашом и баржей, становится брошенной и забытой подстилкой, лежащей на кровати недалеко от новорожденного. Это забытая и ненужная пеленка, но и напоминание о чувстве. У мужа теперь настоящая баржа, не красный плед, у Миллы – ворох проблем. Дети выросли, муж исчезает из повествования, а затем опять возвращается, когда жизнь Миллы становится цельной, а гуманизм побеждает. Дальше у них будут другие сложности, а свет Варданян будет выразительно выхватывать предметы их обихода из той жизни, жизни юных робинзонов.
Гуманизм и предельная внимательность к быту победит и в другом фильме конкурса – “Первом этапе” Ким Дэхвана. Герои знакомятся с родителями друг друга. “You have a problem with my hair now?”, – это знакомство с родителями девушки и фраза, обращённая дочерью к матери. Просьба задуматься о рациональности брака и о том, как неумолимо угасают чувства, адресована матерью парня его избранной. Это герои проходят первый этап. На лобовом стекле автомобиля появляется наклейка, пара притирается, журит друг друга, и сводится всё к понятной и очень простой мысли – их духовная близость отличается от близости, понятной для их родителей. И финал с постмодернистским гулянием по переполненной людьми площади с пластмассовыми свечками в руках, как не символическое венчание в мегаполисе, и в то же время, как не покаяние за все плохое и грубое сказанное любимому человеку. Отчего-то здесь представляются и герои “Миллы”. А может даже гуляют где-то в толпе. Среди других пар первого этапа.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Южнокорейскому бытописанию из разговоров: «Ты сделала новую стрижку?», «Заведем кота?» я не верю по одной причине. Присутствие покачивающейся камеры, не определившейся со своей ролью; то дистанционный сторонний наблюдатель – стыдливо прячась за металлическими ограждениями, облюбовав затылки героев, нависая поодаль над обеденным столом, то – обращенное на лица вблизи око, вторгшееся в личное пространство спальни; ощущается, кажется и актерами на экране. И намеченный вкрадчивый экскурс в первый этап отношений остается примечательной задумкой с обобщающим, громким названием, плохо разыгранной на ниве повседневности. И финальная процессия в толпе кажется элементом обобщения – не возникнет разницы, потеряется пара, с которой зритель провел полтора часа среди прохожих или нет.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
Не могу согласиться. Затеряться в толпе для героев так же важно, как расстаться Джесси и Селин в «Перед рассветом». Им нужно выйти из поля зрения, чтобы вернуться в уже других отношениях.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Героям, может, и важно. Но подобная сакральность – такая же хорошая задумка с потенциалом, как и концепт «первого этапа» в целом, как я уже говорил выше. На деле сама сцена – вымученный долгий план, лишенный ритуальной значимости, что была у Линклейтера. Разница и в эмпатии. Джесси и Селин мы познавали синхронно тому, как они знакомились. В молодой южнокорейской паре, погрязшей в суете будней, ничего особенного нет; это обычные люди, первый этап, второй, какая разница.
Толпа правит и там, где «Когда-то была БразилиА». Обездоленных, бедных, но воинствующих. Современная Бразилия выглядит как антиутопическое государство: масса выряжена по моде антиапокалиптики, настроена решительно, все в кожанках и с оружием. В это пространство залетает некий межгалактический корабль и больше решительно ничего не происходит. Вечное движение в безвременье. Выйди из зала, вернись через сорок минут – ничего не изменится. Может, это столь отчаянный художественный прием отображения зыбкости ландшафта, который уже никогда не претерпит метаморфоз. Наиболее радикальное неприятие вызывает один конкретный эпизод, когда одна условность – экранная – встречается с ничего не подозревающими пассажирами метро. Каторжники располагаются на перроне, люди засматриваются то на них, то в объектив камеры. Одно дело, если бы весь фильм строился на реакции не вовлеченных в съемки прохожих, но, будучи единичной, подобная акция рушит очень тонкую грань логики жанрового конструкта, который здесь просматривается.
Кадр из фильма “Милла” | Ханты-Мансийск, фестиваль “Дух огня”
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
“Бразилиа” из параллельного конкурса Локарно – это такой спектакль из замерших, но оживших картин наподобие аттрактивного видео-арта группы AES+F, но только зачем-то в формате полнометражного художественного фильма между глухим звуком аудио-оформления из-за стены какой-то площадки биеннале и постапокалиптичным сильно кашляющим Джармушем. Вы, действительно, правы, фильм существует по законам выставочной проекции и зритель, в свою очередь, это чувствует. Можно выйти и прийти к началу, можно зайти и выйти ближе к концу. Фабульно оно все равно будет придерживаться прямой, сопротивленцы сдвигают невидимый аппарат власти.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Единственный, кажется, фильм независимый в прямом смысле ни от чего – «Классический период», в котором час с лишним препарируют Данте, если отбросить всю нежность пленочного зерна – примерно то же, что сходить на кафедру эстетики и послушать со стороны нескольких аспирантов любителей зарлита. Интереса мало, но люди увлеченные. Кино в общепринятом смысле мелькает там единожды, на грустной улыбке единственного живого человека в этом многообразии заинтересованных одной книгой умников.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
“Классический период” же видится неподъемным талмудом за счёт своей большой формы. То, что смотрится уютной зарисовкой в коротком, начинает неимоверно вязнуть в своём экспериментальном бытии на 70 минут.
Некая интелектуалльная, uppermediate версия аудирования, задания, которое прослушивают дети в школе в подготовке к ЕГЭ.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Это одна из двух вариаций самого настоящего американского «independent» в конкурсе, наряду с вышеозначенными «Записками о видимом». Как и дизайнерские увлечения в последнем, культура классического периода затмит все дискурсы и останется лишь сказать каноническое «а книга лучше». В контексте, почему-то задумался о теории вчувствования Теодора Липпса, умершего как раз в момент зарождения полноценно нарративного немого кино и осмыслить экранное искусство, естественно на тот момент не способного. Литературоцентричный опус Фента, безусловно, в качестве текста дает определенное ощущение самоценности сопричастности личной деятельности в процессе, особенно, если, к примеру, заморочиться и вести себя по страницам параллельно упоминаемым на экране сноскам, или в разгар индивидуального его изучения посмотреть эту картину. Касаются герои, понятно, каких-то совсем третьестепенных вещей в «Божественной комедии», но все равно. И будь эта лента произведена на стыке кинематографического исследование эссеистского толка, выставляя подпоркой слову – экранный образ, получилось бы самодостаточное кино. Проблема в том, что выполнен «Период» в традиции мамблкора (а те же «Записки» в этой традиции звучат за кадром, внешне кинокритик Д”Амброус играет в современного нововолновца), и разговоры на стыке игры в естественность создают диссонанс, пропадает ощущение художественного реализма, и пленочное очарование выглядит скорее как баг, а не фича. Это топтание на полях, в неспособности перейти к чему-то важному. Как раз по схожей Липпсовской теории художественного восприятия концепции Канта – оно неспособно разжечь образом, словом, внутри что-либо, будучи всего-навсего лишенным чувства. В заключении, на титрах, хочется окинуть увиденное самолюбование разочарованным взглядом, подобно одной из его героинь, кажется, смирившейся с тем, что ее собеседник такой, каков он есть.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
«Заметки о видимом», как замечали многие, это действительно младший брат “Классического периода”, который за счёт приближённости, подступности, или к Данте кажется, или как вы верно говорите, литературоцентричности весомее и как раз видимее, но это всё иллюзия, как и результат попытки построить фильм на деталях, выступающих своего рода уликами, артефактами сегодняшнего дня, в третий раз я в диалоге хочу обратиться к Джармушу, и видимо все же не зря, ведь в насколько разных картинах просчитывается его фетишизм. Впрочем, радикализм “Заметок”, который просто оказывается неудачным, недостаточно тонким и раскованным экспериментом, безобиден и совершенно прост в сравнении с радикализмом другого фаворита жюри, фильмом “Жанр”.
Скудность воплощения художественной мысли все равно вынуждает Клима Козинского троекратно вернуться к игрушечным танкам, но неужели в 60 часах материалов не нашлось бы образа, дополняющего зачин с танками. Стоила ли овчинка выделки? Пока задаешься вопросом, в следующем кадре поверх в обозначенных мелом силуэтах убитых лежат люди, и включается “Лебединое озеро”, для необратимого вовлечения, Клим ещё и покажет балерин, как Кантемир, например, Балагов показывает казнь реального российского солдата. Но сближают их только удивительное переплетение резонёрства и ревизионизма, хлопка в лоб, то время как фильм “Жанр” – пейоративный термин, а “Теснота” – просто обыкновенный фашизм. Лебединое озеро продолжает звучать.
И тут очень по-юношески честной видится интонация Антона Моисеенко в фильме “Пепло”. Взросление двух братьев, “почему мы седые?” – спросит младший. “Мы не седые, мы пепельные” – ответит старший. Их история переменяется документальными вставками из 90-х, и даже этот спорный шаг обставляет вышеназванные взгляды на эпоху. Это кино.
Кадр из фильма “Сара играет оборотня” | Ханты-Мансийск, фестиваль “Дух огня”
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Зачин с танками стоит особняком по причине максимальной доходчивости образа по отношению к хронологическому событию. И мне до сих пор кажется, что игрушечная бронетехника – единственная возможность уцепиться за момент времени и вывести найденные пленки из категории интересных узкому кругу последователей или поклонников Юхананова. Поскольку более явных визуальных совпадений не нашлось. Момент – не передается через запечатленное время, Козинский насильно насыщает исходный материал голосовыми новостными сводками, лебединым озером. И возникает разлад, причастность происходящего фиктивно связана с информацией из вступительного титра. Это немая реакция на лицах, но не переход из внутреннего во внешнее. Ибо если цель в фиксации (а будь интерес здесь сугубо в перфомансистском акте – не было бы контекста), то на пленке остаются игрища в подвале. Дух времени – в хронике запечатлевшей все что происходит наверху, за стенами обозначаемого театрального пространства, а значит и не в фильме Козинского. А ежели рассматривать иначе, уже с позиции документа – то останется лишь мифотворчество и позерство. К тому же остается открытым вопрос – кино ли это? Нет. Видеофильм? Скорее просто видео. Даже на ассоциативной ниве проект Козинского лишен стержня, он не создает из сценок смысловой ряд, как и сами сценки в отрыве, крайне условное отношение имеют к нарративу и сами по себе не представляют художественной ценности кроме как для зрителей, продолжающихся по той же методе театральных акций в Электротеатре. С другой стороны есть «Иванов», настоящее открытие фестиваля и драгоценность российской программы. В процессе просмотра не перестаешь ловить себя на ожившей в сознании интриги – выдержит ли постановщик Дмитрий Фалькович заданный самим же собой темп. Станет ли этот запечатлевший Киев еще до Майдана фильм полноценным высказыванием, не изменяя жанру. Что монологи в безвременье за рулем, что поэтические искания «физика, а не лирика» в попытке закадрить очередную на все готовую девушку в клубе – все это гомерически смешно. А самое главное – можно ли будет отнести «Иванова» к зеркалу, а не отражению в засыхающей луже. Бизнесмен решивший снять кино – смог. Диалоговая среда сразу образует осязаемое поле повседневности, слова, формулировки, язык, все это из того, что вокруг, и это живо. И хочется вести эту картину в диалектике Бахтина. Хронотоп. Ведь это настоящий рыцарский роман на экране, время резонирует с путешествием из одной части страны, единой для мальчика в дубленке которым был главный герой во флешбеке, в другую. Из пасмурной Москвы, в солнечный Киев. И рок, сила сгущающаяся над Ивановым замедляет ритм его жизни, торможение происходит из метаморфозы времяпрепровождения – клубы сменяет гимнастика для лиц среднего возраста в парке. Возникает застой, встречи следующие одна за другой – перестают сулить перспективы. И лифт как лимб где гибель настигает всего за одну склейку сильное обобщение, которое в видеообращении почеркнул и сам режиссер, мы все застряли и надо выбираться. К тому же в «Иванове» достаточно чистых кинематографический радостей. Начиная от преследующего в цветовой композиции розового – от носков, до шариков и папок, заканчивая настоящим перфомансом издалека зафиксированным в галерее, где у соседней картины проговаривается скороговорка – уникальность техники художника – в количестве прорисованных кирпичиков. Нужно же продавать искусство. Эпизод, к слову, обобщающий арт-среду точнее и саркастичнее любых трех часов «Квадрата». В идеальном мире с «Ивановым» сейчас носилась бы вся отечественная кинокритика, но в наших реалиях, хочется верить, что у фильма просто будет хорошая судьба после победы на фестивале.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
«Иванов» Дмитрия Фальковича это, пожалуй, та форма безусловного и независимого, в которой сегодня в России в принципе может существовать новаторское авторское кино, что называется, неподотчётное, прекрасному и талантливому меценату не нужны продюсерские деньги, не нужно доказывать состоятельность художественной условности своего мира, и к превеликому сожалению, подобный эксперимент появляется только на стыке энтузиазма и безоглядного риска. Стоит признать, это практически невозможное кино, а поскольку ещё настолько утончённое, этого никак не ожидаешь от венчурного инвестора, входящего в топ-25 венчурных инвесторов Forbes. Вот и дели людей по доминирующим полушариям мозга. Нихера не работает. Дмитрий Фалькович – финансист и художник. И его герой, средней руки и роста везунчик, классический герой русской литературы, выведенный фамилией-лаконизмом в название, как-то робко и беззвучно почти растворяется в лифте. Его смерть – батаевская перспектива конечного равновесия в неорганическом континууме, созвучная смерти Сары, главной героини “Сара играет оборотня”. Тоже практически незаметной, лишь звук сухого удара головы о камень.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Абсолютная независимость и должна торжествовать на фестивале дебютов, это, думаю, единственно правильно. Просто до сих пор поразительно, ведь это такой давнишний миф – про олигарха снимающего кино, со своей любовницей, про бизнес дела, это пошло еще с девяностых. А здесь совсем другая форма. Чуткое, эстетически выверенное и потом совсем не удивляешься тому факту, что оператор фильма – снимал фильмы Дюмона. «Сара» – единственный фильм фестиваля вогнавший меня в меланхоличное настроение, этого сложно добиться, но возникла должная доля эмпатии, погружения в экранное пространство, чтобы потерять себя и перестать анализировать то, что видишь. Я рад, что он победил. Его автор – умная, обаятельная, миниатюрная женщина, по виду жизнерадостная. А по факту, даже в аспекте, не знаю, дисфункциональной семьи это кино даст фору любому Лантимосу или кому угодно, кто в данный момент преобладает на ниве препарирования семейных отношений на ниве индивидуальных перверсий. В “Саре” удачно сочетается и нарратив, щемящая история главной героини, в мире условности, театральной, социальной, и освоение киноязыка, в том числе монтажного. Эта финальная склейка в сцене о которой Вы говорили, хруст, мощнее любой физиологии. Забавно, что лифт в “Иванове”, что обрыв и камень в “Саре” – места для “свободного падения” героев.
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
Смерть героев, продолжу я, это символический вызов, необходимая жертва, ведь Батай, которого читает подруга Сары говорил, что жизнь существует лишь при проникновении в нее смерти и при обмене с ней, либо тогда она обречена на дисконтинуальный режим ценности, на её полное отсутствие. Сара, отдающаяся на сцене всем нервным расстройствам пантеона греческих богов, и Иванов в своём каком-то полумифическом естестве в несуществующем ныне домайдановском мире абсолютной свободы розовых носков и уличных качалок. Батай говорил и то, что самый великий и самый худший покой служит дорогой к «радости перед лицом смерти». Романтические образы дают ложное представление об этом движении, которое неизбежно обнажает и направляет нагого в пустыню. Здесь есть величайшая простота, из-за которой сами по себе отпадают все высказанные возражения: это мошенничество, так как, не умирая, говорят о «радости перед лицом смерти». Речь идет не о том, чтобы умереть, а о том, чтобы достичь «высоты смерти». Головокружение и смех без горечи, что-то вроде могущества, которое возрастает, но затем с болью теряется в самом себе и вытесняется жестокостью, все это происходит в величайшем молчании. Иванов погибает где-то наверху в лифте. Сара с высоты падает на камни. Лифт распахивается. Камень. Тишина.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Темой фестиваля была «Любовь», но победила свобода. И раствориться в небытии после поездки в лифте это свобода от следующего невольно по пятам следователя. И растворится в секундной тьме между двумя планами – тоже. Вы говорите про Батая, я почему-то вспомнил Льва Шестова, увидев в поведении главной героини фильма-триумфатора смотра человеческую стихийность, и планомерное разрушение тех или иных поведенческих, социальных оков, в которых молодая девушка чувствовала себя замкнутой. Впрочем, существуя в мире, позиционируемом героиней античной трагедией, наверное, злой рок и предрешенность – очевидный исход. Жизнь как процесс обучения, как хор перед первым актом. «50» – тоже жизнь, в своеобразном лимбе Тверской улицы, это и форма перфоманса, и сопутствующие воспоминания, которые фрагментарно произносит Пахом, но правда и миф смешиваются даже из уст его матери, что уж говорить о самом главном герое.
Кадр из фильма “Иванов” | Ханты-Мансийск, фестиваль “Дух огня”
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
Даня Зинченко, один из режиссёров фильма «50», монтировал еще и последний концерт «Гражданской обороны», показанный на альтернативном закрытии фестиваля, и в личной беседе признался, что очень долго выбирал фото для финала фильма. И выбрал самое неочевидное. Егор Летов с котом в домашней обстановке. Отсылающее нас к слогану фестиваля этого года – “Фильмы о любви”. Начался фестиваль с грустной вести, умер сын Сергея Александровича Соловьева. Митя был художником все фестивали, на протяжении 20-Ти лет. И момент, когда Сергей Александрович смотрит на постеры, хотя правильнее будет сказать, картины своего сына, невероятно щемяще, а затем наступает катарсис, выходит Кристофер Ламберт, не может сдержать слёз, и девушки стоят с почётным призом рядом с ним, застывшие в этом переживании, абсолютно непредвиденном мгновении, захлестнувшем весь зал, ставший одной сочувствующей семьёй. Весь торжественный пафос растворился в личном.
 Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
Мгновение. Постеры сменяют друг друга на сцене, размером – настоящие живописные полотна, это тоже мгновения, визуальные коды в памяти участников того или иного «Духа огня» неизменно связанные с пережитым. Помню аккордеониста тянущего одну минорную ноту. Его физиогномика, сама мизансцена (он сидел на краю сцены, в одиночестве, не замечая людей рассаживающихся по местам в зале) была словно из, как ни парадоксально, раннего Каурисмяки. И эта сценка, происходящая в реальности, была ближе сердцу и искренней, чем его последний фильм «По ту сторону надежды», показанный на закрытии. Звуки. Продолжающие звучать, стоит вспомнить о Ханты-Мансийске. Наверное, дрожащий голос Кристофера Ламберта. Меня поразила не сама мизансцена, а подавленное, но такое настоящее обрамление тем словам, которые произносил французский актер. И даже банальное «давай снимем тот фильм, о котором мы говорили» прозвучало как производная отдушина общей боли, которую Ламберт разделил с Соловьевым просто будучи вовлеченным здесь и сейчас в его горе, в его историю. И в конце, на закрытии, звучащее столько раз слово «любовь», казавшееся уже затертым, вызвало в памяти строчки из песни Элвиса Пресли. И она зазвучала. Я не вру. Не сразу. Но так резко. И даже нарезанные хлопья конфетти, слетающие из пространства над сценой, казались снегом. «For I can’t help falling in love with you»
 Денис Виленкин
Денис Виленкин
И Сергей Александрович скажет, как говорят американцы, show must go on. И это шоу, все семь дней фестиваля – сплошное признание в любви. Такое же личное, как это. Мгновение. И не похожее ни на один другой фестиваль. Здесь все рядом. Love always. Мы никогда этого не забудем.