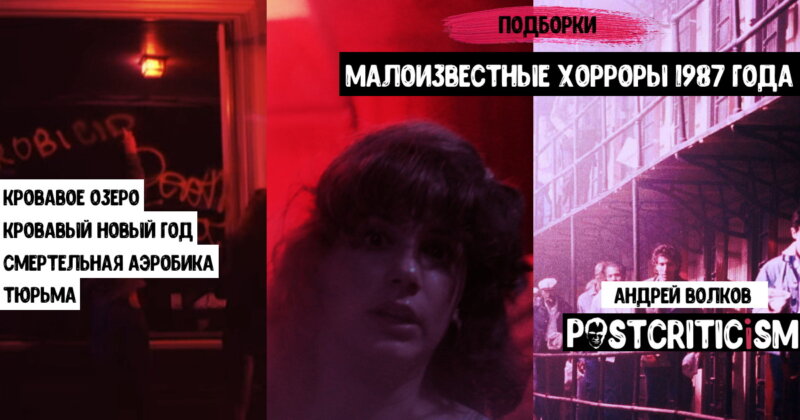Антон Фомочин и Денис Виленкин обсуждают прошедший ММКФ.
Виленкин: Поздравляю вас с окончанием ежегодного Московского праздника кино, который, несмотря на все очевидные организационные проблемы, остается главным российским смотром, и без малого, официально фестивалем А-класса, с чем поспорить достаточно трудно, учитывая уровень некоторых конкурсных фильмов, количество параллельных программ, и неоценимую возможность посмотреть, к примеру, такие, не побоюсь, шедевры, как “Рыцарь кубков” в прошлом году или “Несчастья Софии” в этом, не значащиеся в отечественных прокатных планах, и показанные до того либо опять же только в основном конкурсе Берлина, либо локально прошедшие на родине в случае фильма Кристофа Оноре. Двумя словами, с праздником!
Фомочкин: Аналогично, ММКФ как Канны, только в Каннах души нет, сплошь праздная суета, а здесь есть, столько, что хватит на Локарно и Карловы Вары. Праздник омрачается лишь своим окончанием, начинается рефлексия и похмелье, кинематографического, естественно толка. Впрочем, этот фестиваль порадовал рекордным количеством хороших картин, остатками фестивалей прошлого и этого года, Берлинале и все тех же Канн.
Виленкин: Количество хороших картин на моей памяти действительно рекордное, и решительно не может не радовать победа настоящего кино, конкурс при том привычно грешил формалистским, будто ученическим кино, будь то “Козни”, посвящённые последним дням жизни Пьера Паоло Пазолини, или же “37”, досадно получившим приз за режиссуру. Логика же режиссёрского приза очень паразитирующему фильму, паразитирующему при том бесстыдно, но подменяющему свою нахватанность желанием выдать это за нескончаемую череду оммажей, чуть ли не попланово и посценово копирующую “Древо жизни”, изображая огромную любовь к кино, заканчивая все это безобразие совершенно неумелым планом будто бы из годаровского фильма, где героиня вымученно смотрит прямо в камеру. Решение жюри, учитывая оценки фильма, мягко говоря, не самое приятное, но объяснимое. Заигрывание с большим стилем, в данном случае, шаг, как бы эту самую любовь к кино поощряющий, несмотря на качество и сам факт художественной подмены. 14-й год был знаменателен для Валерии Гай Германики, когда её “Да и Да” тоже было отмечено призом за режиссуру, осмелюсь предположить за всю то же любовь к кинематографу, но ничуть не замутнённую и уж точно не ученическую. Распознать фальшь нелегко, само собой, и снова возвращаясь к иранскому фильму-лауреату, радостно осознавать его победу. Ведь “Дочь” будто из берлинского конкурса, это сильное и поистине будоражащее зрелище.
Фомочкин: “Дочь” дарит экспириенс, до которого какому-нибудь Фархади еще препарировать сгнившие семьи, да невыпрепарировать. Чувственная картина. А как там эмоциональная палитра тонко соприкасается с погодной средой, начиная лучиками света запутавшихся в развевающемся на ветру шарфу в обстановке девичьего девственного торжества вседозволенности в рамках строгих национальных традиций, заканчивая заметаемой снегом фигурой главного героя после соприкосновения с ледяной истиной семейных дрязг. Большая удача, что именно этот фильм попал в конкурс, так что решение отдать ему главный приз вполне закономерный шаг, тем более геополетический расклад позволяет.
Успех “37” был для меня неожиданностью, квинтэссенция “артовой” насмотренности, за которой кроется пустота, больное кино, не по своему сеттингу, а по исполнению. На пресс-конференции, помню, режиссер акцентировала внимание на том, сколь усердно изучила документальные материалы по теме, но наполняет пространство своей кукольной хрущевки карикатурными психами и моральными уродами из папье-маше, что только оправдывает “шокирующее преступление” вокруг которого это все выстроено. Приз за режиссуру на ММКФ рассматривают как нечто, что в извращенном представлении принимают за постановку, ущербная стилистика в “37” пришлась, кстати. Вспомнить ту же прошлогоднюю Роситу, которая была поставлена в худших датских традициях. Или Германику, да, при всей моей нелюбви к “Да и да”, в этом случае приз не вызвал удивления.
Виленкин: Не могу согласиться с вашей отчасти бескомпромиссной позицией насчёт Асгара Фархади, но справедливости ради замечу, что “Дочь” действительно в разы мощнее его “Секретов прошлого” и сильнее фильма другого законодателя моды на иранское кино, триумфатора прошлого Берлинале, “Такси” Джафара Панахи, фильма знакового, и даже, как я говорил, художественно выдающегося, показанного при аншлаге и на прошлом ММКФ. Проблематика “Дочери” близка иранскому “Прибежищу, показанному в конкурсе Московского фестиваля в 2014 году, и несправедливо позабытому после. Главный приз угадывался и по оценкам киноклубов, и по баллам зрительских симпатий. Крамольно, фильм универсальный. Не столь радикальный, как наш с вами фаворит конкурса “Мари и неудачники”, но приз ему возможен разве что при каком-то чуде. Припоминая же наши с вами разговоры в кулуарах, мы предполагали победу польских “Эксцентриков”, смышленого фильма из оскаровского пула, такого социалистического “Шпионского моста”, с оглядкой на польское кинематографическое наследие. Но предполагали мы и победу ведущего балагура всея отечества, Тимофея Трибунцева за роль в фильме “Монах и бес”, перефразируя Романа Волобуева, рассуждающего о фильме “Стыд” Стива Маккуина, “фильм, который можно было бы проецировать на стены модных галерей, не волнуясь, что гости, расплещут шампанское из бокалов”. “Монах и бес”, аккуратное кино, в принципе, способное вызвать одобрительную ухмылку у высокопоставленных лиц. Не “Левиафан” же. Показывать можно хоть в Кремлёвском дворце при полном дворе да всей свите. И, к сожалению, сочтут его авторским и даже злословящим, но очень аккуратно, опять же. Ровно настолько, чтобы подать пример кинематографистам, что можно быть саркастичными и иметь госфинансирование. Но тут мы снова имеем дело с пресловутой подменой и неспособностью распознать фальшь. Главной, пожалуй, проблемой современного фестивального кино, от последнего фильма братьев Дарденнов до какого-нибудь предательски манипулирующего “Моря в огне”. И, конечно, победа прекрасного актёра из “Дочери” на этом фоне, выглядит правда чудом.

“Дочь”, Реза Миркарими
Фомочкин: Чуть менее удачное, но более чем достойное “Прибежище” все-таки упиралось в чисто локальную завязку, которая не позволила в тот год достучаться до членов жюри, “Дочь” в этом плане более универсальна и, как ни странно, проста, чем и изящна. Если отбросить предрассудки ее сможет оценить любой зритель, и среднего возраста, эмоционально близкий к проблеме взаимоотношений с отпрысками, и какая-нибудь условная девочка 18 лет, тут тебе и молодость, и нонконформизм в рамках шариата, и музыка модная.
К “Такси” больше апеллирует египетское “Противостояние” (фильм открытия “Особого взгляда Канн), автозак, кучка разношерстных мусульман разных политических идеалов, журналисты. Да, не тот фильм, о котором стоит подробно… вообще говорить. Но забавно наблюдать подобную метаморфозу концепции буквально за год. Размах куда больше, чем у Панахи, все-таки это продукт экспортный и денег, как и манипуляций на упертых и принципиальных детях, с которыми обращаются как со скотом, больше. Да и попытка усугубить замкнутое пространство на фоне смутного времени провальная.
“Мари и неудачники” одно из трех наиболее мощных эмоциональных переживаний за этот фестиваль, когда стираются границы времени, пространства, условностей и прочей белиберды настоящего и остается чистое кино, проносящееся током по коже. Но тут либо любовь навсегда, либо равнодушие. Вспомнить недоумевающие диалоги в пресловутых кулуарах об этой картине, вся диалектика которых сводилась к разочаровывающему “О чем вообще был этот фильм”. А потом эти люди нахваливали какого-нибудь условного Руминова или “37”. Да.
С “Эксцентриками” полагаю, сыграло роль наше удивление от того удовольствия, которое удалось получить. Не вдаваясь в подробности феерической сцены экономического роста в зависимости от формулировок дефекации, которая, будь этот мир справедлив, вошла бы в золотой фонд киноцитат, кино все равно крайне милое и обаятельные. Да, игры то в богомерзкого Ле Карре, то в любой советский шпионский роман наивны, и музыкальная избыточность очевидна, но неимоверно подкупает то, как это кино структурно развивается, сопрягаясь не с политической обстановкой, драмой героя и прочими дрязгами режима, а исключительно с тем, что чтобы не случилось, джаз необходимо играть, ибо это воздух.
На “Монаха и беса” лучше плескать сидром или медовухой. Хотя так еще быстрее затянет в сон. Не знаю, будь это короткометражкой на тридцать минут, оно оказалось бы веселее и не было бы претенциозных заискиваний с евангелием, религией и какой-то совсем детской морали, которая была воспринята всеми аж до иступленных криков “Браво”. Досталь, конечно, режиссер сильнее, чем младший Прошкин и такому тексту, вероятно, было необходимо именно такое прочтение, но хорошего кино из этого не сделаешь. При всем желании. До Кремлевского дворца оно не дойдет, но до храма Христа Спасителя – вполне.
В конце концов, могли случиться и более душераздирающие решения. Получи приз Массимо Раньери за исполнение роли Пазолини. Или “Дневник машиниста”.
Про фальшь вы точно подметили, но разочаровывает также неспособность уловить, что достаточно нелепые и не из лучших побуждений навязанные мысли пытаются преподать в форме прямолинейной, но не очень заметной рядовому зрителю. “Морю в огне” не хватает закадровой озвучки Михаила Ромма, например. Пусть здесь заложено и зеркальное значение.
Виленкин: Говоря о прямолинейной форме, неочевидной для рядового зрителя и все тех же фаворитах конкурсной программы, нельзя не отметить наше определенное опасение, что кинофильм “Дневники машиниста” возьмёт приз за лучшую мужскую роль, ведь подача этого сербского безобразия отвечала вычурному нонконформистскому кино из конкурса, стоящему к сожалению не особняком даже, а тенденциозным постаментом постмодернизму в худших проявлениях. Японская “Худшая из женщин”, неумело подражающая позднему Вуди Аллену, всецело оправдывающая своё название, могла бы зваться худшим фильмом конкурса, если бы не наличие все тех же “Дневников машиниста”, имеющих высокие баллы в зрительском голосовании и в голосовании киноклубов, или вульгарного репрезентативного “Центра моего мира”, отвечающего худшим меркам санденсовского кино. Хотя подобное открыточное повествование открывало и наш с вами любимый конкурсный “Мари и неудачники”, но с каким же чутьём и любовью к кинематографическому гнозису. С особым же предпочтением мы с вами отнеслись к непохожему определённо на все фильмы программы костариканскому “Голосу вещей” и болели за ведущую актрису в этой ленте. Хоть и не предполагали приз для неё, поскольку фильм достаточно радикален для нынешнего конкурса своей сухой подачей, но абсолютно не радикален, например, для нынешних Канн, ведь там подобное пользовалось успехом лет 15 назад. А Андрей Плахов взял да отдал приз “Коммерсанта” нашей любимице, справедливость восторжествовала, а наши опасения касательно призов так и остались лишь опасениями.
Фомочкин: Гротесковый анекдот растянутый на два часа, все-таки чрезмерно зрительский по своей драматургии, после ударной пятиминутки, начинается стандартизированная сентиментальщина под видом черной комедии, даже без выделяющегося из ряда подобных балканского колорита. Гэг с просветлением и обретением нового пути в объезд закостенелого маршрута жизни путем раскумаривания марихуаной. После первой затяжки призраки перестают появляться перед глазами – ход более чем космополитичный, такое могло быть в любой европейской безделице, что Тиля Швайгера, что Накаша и Толедано. Все-таки жюри обычно держит в голове, что призы раздаются фильмам с “артхаусным” отливом.
То же и “Центр моего мира”, впрочем, о нем проблематично серьезно говорить в силу абсурдности любовного треугольника и голливудских крючков, способных тронуть усредненного хипстера без предрассудков. Дабстеп, фильтры, обнажение физиологического толка в обход психологической подоплеки и криков несформировавшихся юношеских душ. Глянец вместо искренности, одним словом. “Худшую из женщин” очень полюбило одно из критических побочных жюри за нечто, напоминающее восточную красоту момента, лирику Мураками в худшем смысле этого слова. Потому говоря о составных частях, за которые тот или иной фильм могли оценить, мы снова, как и год назад, наталкиваемся на извращенные условия и правила игры, по которым играют завсегдатаи других фестивалей класса A. Зачастую аналогично неумело.
“Голос вещей” на этом фоне сделан мастеровито, он ухватывает немного устаревшую повествовательную тенденцию и компенсирует постановочной усердностью свой мертворожденный драматургический конфликт. Когда исполнившая главную роль актриса приняла приз, честно, отлегло и стало теплее на душе. Подсознательная эмоциональная привязка в этом случае, все-таки о многом говорит.
Виленкин: “Голос вещей” постановочно мастеровит, фильм имеет в своём распоряжении прекрасную сцену с обнажением подсознательного вето на реальность, где героиня, показывающая съёмщику недвижимость, оказывается меж комнат, одна из которых вдруг загорается реанимационным светом, а затем гаснет, рифмуясь со сценой ожидания зеленого света на пешеходном переходе, где неисправно маячит желтый, знаменуя совершенный вакуум её бытия, где реальность ограничивается ровным пульсом на светофоре жизнеобеспечения. Истории же явственно не хватает оголения перманентно ноющего нерва, что, кстати, как раз и отвечает каннской тенденциозности пятнадцатилетней давности, форма явственно превалирует над содержанием, а голос вещей так и остаётся вещью в себе, пусть и достаточно экзотической в контексте конкурса ММКФ. Основная проблема которого в этом году – замыкание фильма в себе, несоответствие постулатам Лотмана и Цивьяна, выраженных в “Диалоге с экраном”. Диалог с экраном оборачивается диалогом экрана с экраном, не находя контакта со зрителем, оборачивающегося смысловым коротким замыканием, что постигло “Худшую из женщин”, где фильм репрезентативно пал жертвой собственной амбиции рассказать историю об истории, где книга, написанная одним из главным героев, является повествовательным лейтмотивом и фундаментом. И выгодно отличает “Мари и неудачники”, где сторителлинг бесстыдно экспонирует фиктивный роман, написанный бородатым социопатом.
Фомочкин: На то главная героиня и медсестра, режиссёр придерживается подобного принципа, сопрягая внутреннюю замкнутость с внешним миром, чтобы максимально отстранить повествовательную линию от эмоциональной пульсации. Вот и вещи говорят невнятно и тихо. Проблема также в том, куда все это приходит, очевиден принцип, но плохо развитая сценарная конструкция просто его не тянет и ломается.
Экран с экраном, зеркало с зеркалом, если рассматривать конкурс по Лотману и Цивьяну. Они не отражают реальность, замыкая свою собственную, во многом искаженную реальность, и каждое дуновение здорового художественного вкуса оцениваешь как легкий бриз после тяжелого солнечного удара.
Потому хорошее кино проще отличить от подделки именно на фестивале, когда приходишь на условного Хеди и понимаешь, что перед тобой маленькое чудо.
Но полные залы все равно на заведомо больных и ущербных художественных пространствах. Есть в этом какое-то извращение.
Виленкин: Извращение в той же степени, когда в вышеупомянутых Каннах люди предпочитают показ “Безумного Макса” какому-нибудь фильму из “Особого взгляда”, который потом можно будет увидеть чуть более, чем нигде. В случае же нынешнего ММКФ больное художественное пространство в лице бледного и гниющего персонажа Редклиффа действительно взывает к зрительской неразборчивости и показушному нонконформизму, обусловленного тягой к просмотру молодого и неординарного. Вдвойне уморительно это, конечно, если принять во внимание факт, что фильм выходит в прокат чуть ли не на следующий день после вожделенного показа на фестивале, где люди готовы сидеть на головах, коленках и, прости Эдисон, проекторе. Обратная ситуация с показом например “Выпуского”, удачно, кстати, названного не без помощи Петра Шепотинника “Аттестатом зрелости”. Аншлаг, оправданный каннским статусом и модой на румынское кино, в целом. “Сьераневада”, эпическое герметичное полотно продолжительностью в три часа, вынуждала людей бороться даже за наиболее удобные места на ступеньках, те, что у ворсистых стен октябрьских залов. Представить себе аналогичную заполняемость в прокате, естественно, невозможно, за что фестиваль нами и любим. Неуловимое ощущение кинематографической эксклюзивности и всеучастности, как при единственном показе “Тони Эрдманна”, к примеру, заявленным нашими прокатчиками аж на февраль 2017. Аншлаги, впрочем, сопутствовали и показам в Доме Кино, где ежегодно берет правление программа русского кино, и аплодисменты вперемешку с улюлюканьем на “Огнях большой деревни”, все та же массовая неразборчивость и все то же нежелание или невозможность отличить фальшь от условной искренности. И наконец, аншлаги вынуждали нас с вами выстраивать расписание чуть ли не минута в минуту, но с другой стороны, это же и замечательно – поток экранной информации настолько платный, что некогда выдохнуть, а вдыхать по-настоящему хочется.
Фомочкин: Никогда не понимал, что могут дать условные десять дней форы перед остальными зрителями, если фильм затем будет идти в каждом если не первом, то втором кинотеатре. Видимо, привлекает плацебо эксклюзивности, напускной шик и торжество момента. Залы битком на любом более-менее котируемом фестивальном фильме, в этом программа Петра Шепотинника вне конкуренции. Зато всегда с особым удовольствием наблюдаешь, как полубазарная публика плюется ядом, выходя из зала через пять-десять минут фильма, стараясь не попасть в сидящих на ступеньках. И если на фильме Мунджу, более чем скверном, по которому наша пресса в дальнейшем с упоением будет писать гражданские эссе о схожести двух пост-советских стран, занята была абсолютно вся площадка и люди продолжали ломиться на протяжении ста минут, то на трехчасовом Пую в какой-то момент просто заблокировали дверь. Впрочем, для многих это было, кажется своего рода челленджем, из серии “высидел Лав Диаса, пришел на втором часу”. Даже не потенциальная ценность имела вес. Сложно удержаться и не похвалить провисающий примерно на час, но увлекательный для своего хронометража и местами гомерически смешной фильм Пую, с более чем живыми людьми на экране. После со всех сторон провального и неуместно убогого “Господина Лазуреску” получилась своего рода реабилитация. Зато с “Эрдмана” никто не уходил, наверняка станет со временем зрительским хитом, обладая при этом возможностями и чувством юмора среднестатистической посредственной немецкой комедии. В кулуарах еще дня два в основном нахваливали именно его.
Но каннский знак отличия нивелируется звездными лицами, обеспечивающими аншлаги на “Ноже” и “Капитане фантастике”. Как будто это когда-либо было показателем качества.
Про Дом Кино я бы не говорил в этом контексте, на любой фильм набирается толпа. А там дело за малым, тотальное дурновкусие у зрителя в крови. Иначе неуемный смех на сельском пародийном нечто младшего Учителя не объяснить.
В воздухе что-то, пыль да выжженный под 30-ти градусной жарой асфальт. Плотное расписание заставляло забывать об окружающих неурядицах и с утра до глубокой ночи погружаться в немного трансовое состояние. Люблю фестиваль за это безмятежное ощущение, когда страшно устаешь от кино, но при этом испытываешь подобие эйфории. В этом, мне кажется, и есть фестивальная условность, ты четко понимаешь, что хорошо, что плохо, но на сам акт просмотра воздействуют силы иного толка, атмосферические и эмпирические. Что, к сожалению, не относится к условности присущей многим фильмам.

“Тони Эрдманн”, Марен Аде
Виленкин: “Тони Эрдманн”, на мой взгляд, крайне убедительно отображает положение в жанре немецкого кино на стыке, задерживаясь между не совсем вменяемым, будто аниматорским, перформансом, что разыгрывается на пляжах Кемера, и жизнеутверждающей драмой, имея своеобразные параллели и с “Маленьким чудом” Хеди, где возлюбленная главного героя была как раз аниматором в тунисском пляжном отеле, но фильм, несмотря на разные художественные парадигмы, был близок к Эрдманну своей камерной life-asserting манифестацией. Условностью “Эрдманна” же хочется восхищаться, поскольку фильм продолжительностью в почти три часа ни разу откровенно не сбоит, и даже его пошлость ни разу не стесняется своего обличия, как американские боди-позитивщицы не стесняются покупать бокс из 12 пончиков, уходя весом далеко за сто. И это обличие какого-то snl-овского этюда, идущего вразнос, безусловно, выгодно отличает его не только от всей основной конкурсной программы, но и от большинства немецких комедий. “Тони Эрдман” – старый фотоснимок дочери с отцом, где отец держит в руках вставную челюсть, вызывая при этом брезгливость, раздражение, едва проявляющуюся жалость, но прежде всего, любовь. Возвращаясь к условности, как к пагубной и не замечаемой будто бы никем, либеральной привычке, достаточно вспомнить других каннских участников, “Неизвестную” братьев Дарденн из основной программы и “Перикле черный” из параллельной. Эта релятивность выдаётся за авторское естество и самобытность, оттеняя сюжетные свойства унылым, словно вынужденным, артефактом стиля в первом случае, и лжепровокацинной, из кожи вон лезущей эстетикой во втором.
Фомочкин: На этих картинах удобно сравнивать принцип запечатленного момента в развитии. В противовес. Вымученный юмор “Эрдманна”, свойственный даже не скудному кемерскому разнообразию all inclusive, а подвыпившим аниматорам Сочи, перетянут со всех концов мучительными мизансценами, которые отображают возникновение очередной шутки в голове сумасбродного героя, паузы, свойственные ее восприятию, бытовой специфике, неловкостям и, конечно, ушлым прогулкам по Бухаресту в национальном румынском костюме. И точечные, выверенные вспышки реальности, огоньками играющие на заднем плане в “Хеди”, с незаметной ретрансляцией собственного “я” не на вдохновенно нарисованные комиксы в качестве тайной мечты, а на окружающую действительность, украшающую то, что кажется обыденным. Касаемо “Эрдманна” не стоит также забывать, что пресловутый снимок так сделан и не был, словно отец сам осознал нелепость своего чувства юмора. Впрочем, об этой картине мы подробно поговорим ближе к ее российской премьере.
Что примечательно, «Неизвестная» и «Перикле» имеют прямое отношение к Дарденнам, в одном случае – как постановщикам, в другом как продюсерам. В первом случае подражание самим себе, с годами становящееся все более невыносимым, достигло абсолюта и “Неизвестную” с гуманистической напыщенностью, расследованиями лирической героини в традиции пародийного Скотланд-ярда и смехотворной развязкой смотреть решительно невозможно. Во втором случае мы сталкиваемся с более нетипичным случаем. В “Перикле”, которого стоило назвать “Закопченным”, типичная Дарденовская стилистика наделяется жанровыми особенностями гангстерской драмы современных бедных парижских районов. Жернова эксперимента ломаются уже на первых минутах, неспособные перемолоть гранитный камень жанра, смотреть на это соразмерно невыносимо, но как пример определенного тренда, достаточно примечательно.
Виленкин: В “Неизвестной” поражает, с какой безалаберностью подаётся семантика социального неравенства. Артистка Адель Энель в ходе своего ходульно мотивированного расследования, приходит в общественное заведение, где опрашивает двух молодых людей о пропавшей девушке. В одной из последующих сцен молодые люди, взявшиеся из ниоткуда будут бить машину героини и угрожать ей. Героиня же – святой санитар леса – будет помогать собачке, ребёнку, старушке, а мир по прежнему отвечать ей несправедливостью, и бить по подставляемым щекам. И вся эта условно толстовская дидактика круговой поруки будет собирать аплодисменты и крики “Браво”, являясь самым явным примером кинематографической фикции, отвечающей тлетворной моде на рокировку фальши и искусства, и повторюсь, выдающей увековеченную на экране смехотворную условность за творческий метод. Последний фильм Вуди Аллена, показанный на закрытии, тоже тривиально сбоил где-то в области авторского метода, и на своей условности держался все отведённые 85 минут, но даже самый плохой фильм Вуди Аллена, как ни странно, не хочется ругать, потому что восприятие откликается на плохое искусство бурчанием, но никак не желанием устраивать показательную порку. Просто потому, что искусство. Пусть и очень плохое.
Фомочкин: Забавляет скорее та беспомощность, с которой эти социальные слои приходится выкрашивать в черный и белый, выставляя стоическую реакцию на удары судьбы, спровоцированные припадками угрызений совести, подобно библейской смиренности. Вероятно, разжеванная дидактика и нравится людям: когда говорят, что такое хорошо и борются с мировой несправедливостью путем непротивления злу, пока раскаяние само не прорвется. О какой художественной ценности здесь можно говорить, если даже мизансцены Дарденны передерживают.
Речь, скорее, о творческой лени. Аллену, например, на полтора часа теперь хватает одной фразы про жизнь, даже не шибко оригинальной, но которую потом ненасмотренный среднестатистический зритель, чьи интересы не уходят дальше летнего репертуара ближайшего мультиплекса, воспримет как откровение. И отсылки к греческой философии. Куда без нее. Надеюсь, к следующему году он наберется сил.
Если Аллен в качестве фильма закрытия разочаровал, то “Кеды” Соловьева в качестве фильма-открытия заочно не внушали особых надежд. Человек тридцать лет снимает плохое кино, оглядываясь на, в общем-то, не самое лучшее от френч вейв, практически не смещая темы с простых истин, о которых он с упоением подростка хочет поговорить, и визуально застревая каждый раз на грани плохого, любительского и чудовищного. Очевидно, что ничего цельного и в этот раз ждать не приходилось. Ну, Баста хороший, все. Можно сколь угодно убеждать меня в том, что это и есть творческий метод, хорошего вкуса в “Кедах” не прибавится.
Виленкин: Я бы не стал столь императивно полемизировать о Сергее Александровиче, в особенности о “Кедах”. Это довольно точная мистификация под учебный фильм режиссёра-первокурсника, вплетающий штампы в повествовательную канву. Казалось бы, как можно серьезно относится к кинофильму, где герой за день до своего отъезда в часть на службу приходит в допотопный магазин обуви за кроссовками, а когда выясняется, что они ему не подходят, отправляется в педикюрный салон, где встречает свою любовь? Неуемная искренность, окутывающая фильм, как синяя атласная лента опаясывает соломенную шляпу, вытащенную не то из сундука Гекльберри Финна, не то позаимствованную у героев, вы правы, французской новой волны, возносит «Ке-ды» над всеми подобными экспериментами, и неслучайно бьющие в лоб надписью «Цитата» на экране «Летят журавли» едва уловимым дыханием возникают в образной плоскости бессознательного. Следует титр – «фильм о птичках», так же по-ученически переплетающийся с ассоциативно гремящими танками, фильм циркулирует в палитру «Уродов и людей», слышен голос ребенка поющий про «Забайкалье» вместо «Динь-динь, колокольчик звенит», и дыханье будто бы разносится по залу, кино дышит образами, выглядит как неумелый студенческий фильм, разыгрывает в восприятии культурных кодов нечто вроде того, что удавалось Жан Люку в «Истории кино». На следующий же день на ММКФ показывают «Машину любви» Руминова, и складывается ровно противоположное ощущение, youtube-постмодернизм, стилистика которого представляет из себя какие-то бесталанные не то гогеновские, не то уорхолловские мазки по экранному пространству. В Годара нельзя сыграть, но когда появляются «Ке-ды», их отчего-то хочется любить сильнее любого его фильма.

“Ке-Ды”, Сергей Соловьев
Фомочкин: САС штамповал подобные мистификации и десять лет назад, и двадцать. Вспомнить хотя бы «Нежный возраст», в котором даже некоторые сюжетообразующие элементы сходятся с «Ке-да-ми», про пресловутую постановочную пошлость, преследующую постановщика со времен очаковских и покоренья Крыма молчу. Если режиссер не чувствует камеру, это не значит, что он намеренно подражает неумелому абитуриенту на поступлении, он просто не умеет рассказывать истории, какая бы энергия, преобразующая желание снимать в творческий порыв, не била с экрана – любительщина остается любительщиной. Что экспериментального в провальной драматургии? Манипуляции уровня худших социальных роликов про аутистов? Все эти песни про «Забайкалье» – желание продюсеров картины двигать магистральную идею своих благотворительных фондов. Выглядит банально пошло, старость таки не в радость, тут уж даже не пижонством выглядит параллельный монтаж с «Журавлями», а, скорее, искренним расшаркиванием перед «святыней» без осознания того, зачем и почему. В Годара не умеет играть и сам Годар, это мы давно выяснили, как и то, что выражение это на самом деле фиктивно, но, в целом, не могу не согласится, так как абсолютно любой фильм на земле хочется любить сильнее каждого из десятков его работ. Впрочем, все это на фоне самозабвенной руминовской мастурбации на свое эго меркнет и видится вполне себе приличным и складным произведением. Порно без порно, кино без кино. Забрав у самого себя и без того дурацкую фразу про «Твикс», Павел оставил свое домашнее видео без какого-либо блика привлекательного для недалеких хипстеров. Все из чего «Машина любви» состоит – это малопривлекательные обрезки какого-то иного, полноценного порнографического фильма, псевдо-исповедальные расписанные на коленке рассуждения об отношениях с отсылками к самой очевидной поп-культуре, запечатленные, словно в пьяном угаре невменяемые перепалки, намекающие на подобие внятных диалогов. Нет сомнений, что Руминов считает это крайне веселым, но он в своей тяге задать происходящему условность эксплотейшена доказывает лишь, что знает об этом самом эксплотейшене по паре роликов с ютуба. Если честно, за три фестиваля ничего хуже не видел.
Виленкин: Не могу с Вами не согласиться, ничего хуже действительно не было. И вот так, обмолвившись о худшем фильме фестиваля, мы с Вами подходим к лучшему. Последняя работа Кристофа Оноре – «Несчастья Софи». Экранизация детского французского бестселлера, расписанная красками то Тимолеона Мари Лобришона, то Жана Батиста Грёза, то вовсе Ивана Айвазовского.
Фомочкин: Мне вот и драматургически все нравится. Как первая глава искусно соединена со второй, притом, что фабульно это достаточно очевидное и банальное развитие событий. То есть, условно, вот, мать умерла, добрая ее подруга возьмет девочку с собой.
Сделано хитрее. Я не говорю о высоком вкусе (который у Оноре постоянно сбоил раньше), но будь это кино семейным – был бы парафраз “Моей ужасной няни”, а на деле оно предстает как серьезная такая, мрачная викторианская драма, с вкраплениями выше обозначенных вами живописцев.
Соответственно, антагонист — мачеха – использует крайне садистские способы, зеркальные проделкам Софии в начале. А чудовищные поступки Софи в начале работают на утяжеление утраты ее родителей и определенное смягчение своенравности в конце.
Помню, после просмотра мы с вами большое внимание уделили отображению зверей в картине. Мне кажется, что это не столько сюрреализм, сколько ретрансляция самого образа любого милого зверя через детское сознание. Для них они выглядят мультяшно.
Виленкин: Первая вообще репрезентативна и только, и она рушит все классическое построение сюжета: в сущности, 30 минут мы наблюдаем, как пакости перетекают одна в другую. И никто не скажет, что это неправильно, потому что “Проделки Софи” это литература. Степенная и красивая.
Фомочкин: Не совсем, на мой взгляд. Она не рушит классическое построение сюжета для жанра. Это вполне закономерно. Сначала мы должны пройти через проделки. Потом за укрощением строптивой через “осознание” ее неверного поведения.
Но здесь же этого нет! Что меня удивило сильнее всего – Софи осталась ребенком.
Шкодливым, с проснувшейся совестью, но ребенком.
Таким же непосредственным и строптивым.
Виленкин: Да, мир подстроился под нее.
Фомочкин: И это было бы пошло, будь она старше. Но пока она маленькая, это абсолютно гармонично. Как наступление завтрашнего дня. Или холодная зима.
Виленкин: И финал великий. Абсолютно.
Фомочкин: Оноре любит мюзиклы. Он делал кино в традиции “Зонтиков” с Гаррелем, где, правда, осовременив, дико опошлил эстетику. Но это был мюзикл. И здесь, соответственно эта традиция имеет место. Но она менее меланхолична и полна энергии.
Виленкин: Я ещё в восторге от бескомпромиссности. Он показывает мачеху как все же глубоко в душе не желающую расставаться с Софи женщину. Софи уезжает, бац, а писем ей не приходит. Человеческое взяло верх над сюжетным крючком. И это прекрасно.
Фомочкин: У нее сложнее характер, да.
По крайней мере, как обычно бывает в жанре – мачеха должна быть гипертрофированной сукой, которой девочка не сдалась вообще.
Но у Оноре мачеха выступает более непростым образом, так как вполне искренне хочет воспитать Софи.
Предфинальный ход с куклой и “поехали быстрее” осмысляется через это.
Виленкин: Да. Все победы и поражения останутся пятнами на горячо любимой кукле.
Фомочкин: Мачеха дергается, потому что надеется, что София скажет что-то.
Она же хочет от нее эмоций. А Софи прекрасно понимает, что единственное, как она может ей отомстить, – не дать того, чего хочет мачеха.
Потому не плачет и не огорчается, когда письмо сгорает. Ну. Делает вид, конечно. Но не показывает ни разу.
Виленкин: А как прекрасны остальные девочки! Они же все совершенно непохожи друг на друга, при том, характеры буквально с первых секунд врезаются в образную ткань фильма.
Фомочкин: Мне очень сложно зачастую воспринимать детей на экране, потому что они более естественны, чем внутрифильмовое пространство.
Создают свой органичный мир, который рвет полотно.
Здесь этого нет.
Ни одна из девочек, ни мальчик – не выпадают.
Виленкин: Да, и это неоценимая заслуга режиссёра, а самое главное, неоцененная, фильм же нигде в конкурсной программе не участвовал?
Фомочкин: Фильм сразу вышел в прокат. На весенних каникулах.
Я просто искренне не верил в Оноре. Потому что он для меня был в несколько пограничном состоянии между наличием какого-то вкуса и тотальной пошлостью, построенной на смешении ЛГБТ тематики, деградирующим поколением Х и прочим-прочим. Видимо, ему нужно было просто удалиться в другое время и говорить на языке другого возраста. Но там и первоисточник сильный, судя по всему.
Виленкин: “Софи” практически лишена просчетов. Это образцово-показательная адаптация книги.
Фомочкин: Конечно.
Виленкин: Что же, спасибо вам за компанию, а фестивалю за фильмы. Ура прекрасному!
Фомочкин: Взаимно!