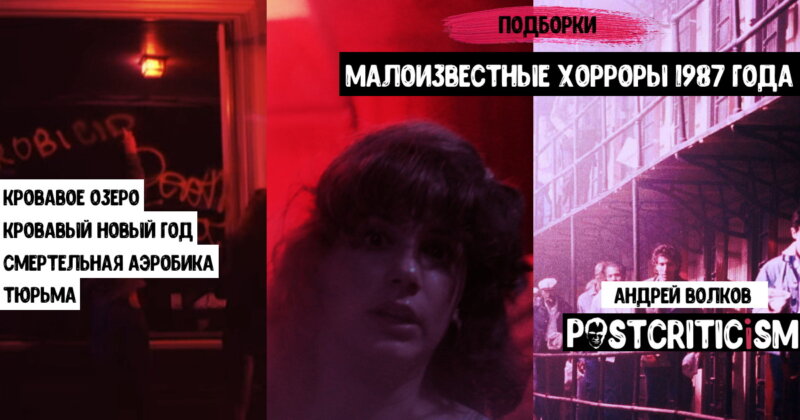“Воображаемая любовь”, 2010
Зигота
Взаимоотношения героев любовного треугольника – не сюжетная сторона «Воображаемой любви», а формалистский художественный приём, наиболее комфортная эманация для психоаналитических изысканий режиссера. На узнаваемых фабульных перипетиях Ксавье Долан не останавливается, выбрызгивая на зрителя нескончаемый поток переизданного и заново воссозданного. Ворох аудиовизуальных цитат и реминисценций служит потаканию эгоистической, чуть ли не на грани солипсизма, рефлексии человека, расщепившего свою творческую натуру на три условные составные. Монья Шокри в роли гротескной чудачки Мари – женская ипостась. Сам Долан – в образе Франсиса, восприимчивого гея с трагическим мироощущением. Нильс Шнайдер играет Николя – объект интереса Франсиса и Мари, потенциальную причину соперничества друзей детства и надвигающейся драмы, воплощение недостижимого идеала. Концептуальная троица по внешней прорисовке характеров и мотиваций демонстративно имеет мало общего и столь же показательно является сутью одной производной. Конфликт и способ его разрешения известен заранее, но конфликт – лишь повод сделать приятно себе и красиво другим.
В «Les amours imaginaires» цитируется чуть ли не весь лазоревый пантеон прославленных творцов. Дождь из зефирок, подсмотренный у Араки. Лейтмотивный «Bang Bang», отсылающий к «Летнему платью» Озона. 27-летняя Шокри – вылитая Кармен Маура из альмадоворской вселенной, вечно страдающая от кризиса среднего возраста. Сюда же и символическое камео Луи Гарреля, постоянного актёра Кристофа Оноре, наиболее близкого по методу художественного осмысления к Долану. И это далеко не всё. Канадский коллега перечисленных мэтров не пытается транслировать политкорректный тренд о равенстве гендерных установок и сексуальных предпочтений. Напротив, Ксавье подчёркивает собственную гомосексуальность, акцентирует исключительность познавания действительности художниками с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Делает это без агрессии, ненавязчиво и даже деликатно.
Периодически линейность нарратива разбавляется интерлюдиями. Трагикомичные вставные монологи о влюблённостях и расставаниях – драматургические варианты засечек, которые делает Франсис, когда его чувства кем-то отвергаются. Краткие курьёзные новеллы вычурны, нелепы, наивны. Типажи их вещающие – милы и гламурны. Интонации типажей неестественные, словно они рекламируют парфюм или зубную пасту. Николя – фанат Одри Хепберн. Франсис дарит ему постер актрисы, Мари невзначай цитирует фразу из «Завтрака у Тиффани». Всё ради сближения, приобщения друг к другу. Для воображения нет различий между материей и идей. Винтажная соломенная шляпа и оранжевый джемпер равны рыжим кудрям, а рыжие кудри определяют порядок импульсов нейронов мозга. Таков принцип овеществления всего и вся, нацеленный на выявление материальной сути не поддающихся вербализации явлений. Словно оказываешься в лавке чудес, где всё по одной цене, где всё красиво, выпукло и равно друг другу. Шмотки, мечты, украшения, еда, впечатления, ночные кошмары, признания в любви; предметность, погружённая в метафизику; высеченная в граните и перевязанная красным бантом (или зелёным, или лимонным, или ещё каким-нибудь) беспредметность. Фраза «я люблю тебя» тоже имеет свой доступный ценник. В этом нет цинизма. Мы – это наши воспоминания и представления о себе. Но вспоминаем и представляем мы себя через вещи, через ощущения физиологических рецепторов. Мы полны всякого иррационального хлама, разносортных мелодий и цитат из книг, фильмов и прочих «искусственных» влияний, источники которых давно нами забыты, но сполохи послевкусия по-прежнему управляют нашими эмоциями. Подобно Педро Альмадовару, Долан не проводит границ между хорошим и дурным, не дифференцирует барахло, накопленное его бессознательным разумом, он холит каждую вещицу, сдувает с неё пылинки и помещает в свой личный «музей невинности». Белые листы писем, жёлтые буквы, чёрные конверты, красная печатка. Эстетизм, возведённый в абсолют; пошлость, лишённая стихии вульгарности. Интерьерный, дизайнерский, цветовой, натюрмортный шик (или пшик) как болото затягивает в себя человеческое. Люди и вещи взаимосвязаны и взаимодополняемы.
«Кто меня любит – за мной» – кричит Николя своим «друзьям-поклонникам». Интерес к нему у Франсиса и Мари не зациклен на «постельном» вопросе, поэтому интрига не в том, кому первому улыбнётся удача телесного свойства. Даже в долгой сцене онанизма Франсиса больше душевной беспомощности, нежели физического томления. Секс у персонажей отдельно, тяга к Николя отдельно, она также мерило их привязанности и дружбы. Если бы его не было, они бы придумали этого смазливого, самоуверенного, успешного и вальяжного волшебника с солнечными кудряшками, чтобы излить на него всю свою неудовлетворённость и дискомфорт переполненного инфантильностью патологического страха перед жизнью. Николя – данность совершенства, неизменность притяжения, одинаково влияющего на них обоих. Обаятельный деревенщина, как герой Теренса Стампа из шедевра Пазолини (привет ещё одному киногению среди геев), проникает в души Мари и Франсиса, порабощает их полностью и неотвратимо, сталкивает между собой, заставляя решать неразрешимые «теоремы» чувственного и чувствительного. Но «долгое дыхание» – это не про Долана. Для этого он слишком импульсивен и восторжен, слишком самоуверен, чтобы говорить серьёзно о серьёзном. Он далёк от философских исследований итальянского классика, его не волнуют фундаментальные основы бытия, сокрушающие и спасающие человеческую душу. Он юн, беззаботен и волнения его в иной плоскости. Молодость, как правило, легко перемалывает меланхолию, убеждая, что нет никакой «неотвратимости». Николя – не хищник-искуситель, он объект поклонения, божок гормональных грёз, которые в юности все склонны выдавать за меткие выстрелы Амура, трижды воспетые в фильме Далидой. Николя уйдёт, и его место займёт другой. Появление в финале Луи Гарреля оммажно зацикливает концепцию специфической геометрии на самой себе. Ведь Гаррель – один из основных участников другого культового трингла, из «Мечтателей» Бертолуччи.
Монтажное своеобразие фильма парадоксально напоминает советский хит «Любовь и голуби» с его разделением на «фигуры», но так, как если бы работу Меньшова перемонтировал Тарантино. Избыточная разбивка на главы через назойливую сюжетную короткометражность сцен, через вставки отвлечённых бесед, через длительные музыкальные номера, через смену цветовой палитры, через однотипные секс-эпизоды под виолончельную сюиту Баха… Долан не может остановиться. Кажется, он будет снимать это кино бесконечно, затягивать периоды и восхищаться своим внутренним миром, столь щедрым на разного рода оттенки и ассоциации. Долану не нужен партнёр ни женского, ни мужского пола, он сам себе великолепный любовник. Но его кинематографическая сублимация не равна мастурбации. Этот психоаналитический стриптиз ближе к самооплодотворению. Вундеркинд, имеющий две полноценные пары репродуктивных органов, вполне может заниматься сексом с самим собой – в сфере воображения возможно всё. В конвульсиях множественного автооргазма, в безудержном спермическом потоке, Долан рождает самого себя заново. Себя идеализированного, стерильного, лишённого признаков индивидуальности и полностью растворённого в своих желаниях, в визуализации фетишей, в материи двадцати четырёх кадров в секунду, в зиготе неизбежного уробороса.