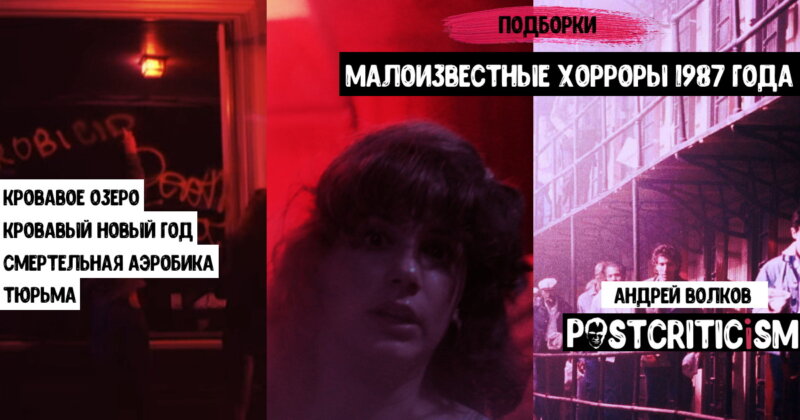Антон Фомочкин рассказывает об Олеге Янковском и “Полетах во сне и наяву”
Утреннее перерождение. Пробуждение. Покрытый испариной лоб, впалые щеки, морщины, как печать возраста, на тарзанке через четвертый десяток. Янковский оглядывается. Оглядывается Макаров, смиряясь с окружающим. Взгляд – ключевое. Этот фильм – взгляд. Образ – взгляд. Вдаль, на прошлое, на сейчас и все, что накопилось, протянулось вслед за долгие годы, бытовое, социальное. Все они оценивающе смотрят: жена, коллеги, знакомые. У них в глазах осуждение и разочарование. В его глазах – недопонимание и тоска.
Преследующее сожаление. Реакция через систему повторений. Погруженное в сон тело. Очнувшись, он морщит лоб, осматривается, словно отзываясь на нездешние звуки, доносящиеся с другого края целлулоида. Это тягучий разрыв со сном, когда было покойно. Покойно в дреме – надо жить ею, чтобы летать. Балаян уводит на средний план, и вот герой обхватывает колени и поворачивает голову так, что мы не видим его лица. Поза ребенка закрывшегося от проблем.
Янковский «телесный», нездешний, но земной, он не может воспарить. За балагурством кроется печаль. Стоит скривить лицо, глаза выдают. Словно пригвоздило к асфальту, какой бы «летящей» ни казалась походка, как бы нога ни давила на газ, чтобы взлететь на очередной кочке, а руки ни имитировали крылья. Давит багаж, гирьки, мысли, накопившиеся к злосчастному юбилею, реквием по которому прозвучит на даче.
Ответная реакция – легкомысленные поступки – глубже вжимаешься в землю. Обесцененные слова растворяются в воздухе. Макаров заврался? У него вздулась вена на лбу, он твердит про встречу с матерью. Макаров заврался. Зачем? Чтобы вжаться в водительское сиденье и нестись. Куда? К молодости. Молодость – окрыляет. Наверное. Молодость – предательски изменчива.
Всплески энергии – пнуть мяч, закричать, пробежаться от одного конца улицы к другому. Может, запыхавшись, глубоко вдыхая кислород, удастся оторваться? Нет. В такой холод сутулая фигура в свитере и потертых джинсах движется по городу, нервно поеживаясь, не приходится ко двору нигде. Зато лицо пронзает улыбка, порой сардоническая гримаса, порой ироничная, порой осененная детской непосредственностью.
Кажущаяся несерьезность сопровождает его везде, но особенно разгорается рядом с женским полом. Именно тогда и становится понятно, что все это – быть не собой, рисоваться, казаться человеком, которому безразличны возраст, время, проблемы. Янковский плавно мимически меняется. В машине жена и любовница, отсутствующий в треугольнике конфликта, прямой отстраненный взгляд вдаль. Стоит накалу пройти свой пик – по щелчку расплываясь в ухмылке, он продолжает играть, словно и супруга потом домой пустит, и девушка в общении не откажет.

Только на крупном плане – в укачивающем поезде, под аккомпанемент того самого звучания извне – мы видим земляного цвета усталое лицо, заросшее однодневной щетиной. Макаров снова смотрит в одну точку, внимательно высматривает что-то, может, в надежде ухватить то, что он увидит в дреме. Янковский отыгрывает чистоту мимической спонтанности – статичная маска озаряется ухмылкой, на несколько секунд, возвращаясь в исходное состояние – словно и не было ничего.
После первого тура одиссеи по местам, где ему не рады, он возвращается домой. Снова взгляд – на супругу, извиняющийся, тоскливый, еле заметно уголки губ поднимаются вверх. Склейка. Ссора – ругань, все со спины. Все та же немного сгорбившаяся фигура. Балаян хитрит – за диапазоном от ёрничества до экзистенциальной трагедии он не показывает своего героя с эмоцией в общепринятом смысле, тем, что выбивает из круга заготовок, зоны расчерченного комфорта. «Открой дверь. Что ты сказала? Как не моя?» Мужская фигура плечом судорожно пытается выбить дверь. Мы видим только круги на воде, остаточное от злости, легкое раздражение. Оно пройдет, стоит поцеловать спящую дочь. Дети умеют летать.
В отношениях главного героя с дочкой Балаян снова идет на хитрость. В сцене на детской площадке Макаров встречает свою девочку искренне счастливым – появляется новая эмоциональная грань жизни Янковского в кадре. Он светится, отбросив все напускное, и улыбается, кажется, впервые по-настоящему. Но перехода между состояниями нет, снова склейка. На этот раз, резкая склейка, нарочитая, важная. Это настоящее продлится вплоть до «празднества». На нем отразится понимание. Мучительное. С тоской в глазах. С вздувшейся веной на лбу, в осознание лжи самому себе и окружающим. Ходуном ходят желваки.
И «Ку-ка-ре-ку», выкрикиваемое, стоя на коленях под столом, не будет выглядеть как позерство, только как искреннее самоуничижение. Болезнь потерянности, сбившейся давным-давно ориентации в жизни. К какому берегу прибиться, и нужно ли, когда дома ждет жена и дочь. А не бросить ли все? Пронестись по полю, с мальчишками. Как знамя, подняв над собой сжатую в кулаке сухую траву. Почувствовать движение в вечной стагнации.
Искреннее озорство вернется в последней попытке эскапизма, той, что венчает ключевой взгляд: из-за плеча, снова лишь глаза. Живые и грустные, вглядывающиеся в людей, что шли по жизни рядом и остались там, у костра. И снова поиск, ледяные объятия, сутулая фигура тонет в сене, свернувшись, как в утробе матери. Он играет. Холод. Боль. Судорога. Мы не видим лица, возможно, потому что передать это удается лишь через игру телом, физиологическое погружение в состояние героя. А может, зритель и не должен снова увидеть его глаза, оставшись с его взглядом там, у тарзанки. Янковский живет, как жил на экране все это время, оттого столь естественно менялся, не отталкивая. Но в руке, резко сгребающей сено, прослеживается лишь одно. Пустота и гибель.