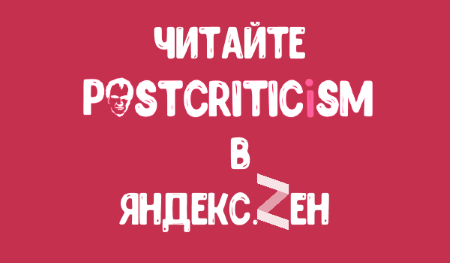Silentium
Наше время (Nuestro tiempo), 2018, Карлос Рейгадас
Александра Шаповал – о новом фильме “мексиканского Тарковского”
Океан лижет берег, оборачиваясь мутноватым прудом. Дети играют в воде, сменяясь подростками в шалаше у пруда. Вода, дети – не требуют определения в мире, они равны ему. Взрослея – приходится определять себя. И шум ветра становится предпочтением в музыке, а соленые брызги на коже – не так щекочут, как поцелуи и таинство первой телесной близости, познающего акта. Документальная подвижность камеры фиксирует детство и юность, пролог: непосредственную жизнь, еще не ставшую знаком, но неизбежно к тому идущую. К переходу в мир «взрослых»: ускорению и одновременному замедлению ритма, к монтажу «настоящего времени» – сложного, разновеликого, магматического потока, воспоминания сцен и образов слов.
Вербализация – важная часть мира «Нашего времени». В отличие от предыдущих картин радикального визионера, мага и мистика Карлоса Рейгадаса («После мрака свет», «Безмолвный свет», «Битва на небесах», «Япония»), где поэзия слита из видимых и невидимых образов (надмирности, природы, тела и внутренней жизни), пятый и самый долгий (трехчасовой) фильм «мексиканского Тарковского» пробует на ощупь слова. Неслучайно главные герои картины: Хуан и Эстер, сыгранные самим Рейгадасом и его женой Наталией Лопес, – поэт и преподавательница литературы. Они – прямые представители мира, опосредованного языком – пытаются бежать от сигнификации, прихватив за собой детей (реальные дети семейства Рейгадас). Сменив «большой город» на природное лоно, строгость слова – на вольность заката, интеллектуальный труд – на разведение быков. Но в итоге слагают самый большой и печальный нарратив в своей жизни.

Кадр из фильма «Наше время»
Хуан и Эстер пытаются сделать свой союз интеллектуальной идеей. Идеей полной свободы: стопроцентной открытости, доверия и все-понимания, отсутствия границ. Они стремятся вознестись над обыденностью и обывательством, над «слишком человеческим», с его классическим пониманием брака, с его собственническими проявлениями, с его варварским пониманием «своего». Они хотят стать свободными духовно благодаря телу, паразитируя на нем наиболее доступным способом: секс. Точнее, свободный секс Эстер с другими мужчинами. В его физике они отчаянно надеются обрести метафизику, обрести архаическое, начальное чувствование мира, нащупать тот предел, где заканчивается «мое» – и становится «всем», где обмелевший пруд впадает в мировой океан единого языка, не требующего слов. «Там, где рождается жизнь» – другое, рабочее, название фильма.
Окружающий мир – беспрестанно творящая природа, величественные, непредсказуемые животные, простые и непосредственные местные жители – должен способствовать погружению в жизнь. Но он лишь оголяют невозможность цезаря стать быком, подсвечивает победившее «горе от ума». Идея недостижима: нутряная природа отвечает ненавистной собственнической болью, соглашение рвется под весом чувств. Хуан изводит себя и Эстер ревностью, скрытой под маской щепетильности; первый «пункт» договора – открытость и честность рассказа о связях на стороне. Эстер нервничает, кричит и впадает в истерики: она чувствует, что влюбляется в Фила (американский актер и писатель Фил Берджес), нынешнего любовника, объездчика лошадей с их семейного ранчо. Поэзия свободных отношений скатывается в прозу любовного треугольника, утяжеляется неизбежность слов.
Символично, что сбой брачного механизма происходит при появлении «чужака», американца Фила – представителя исторически враждебной Мексике культуры, потомка колумбов, завоевателей страны. Эстер, «поглощенная» Филом – не только страшное повторение Истории, но и фактическое признание добровольности современного «поглощения», ассимиляции с западным образом мысли. Травма родной уникальной культуры, «изнасилованной» другой, неизменно волнует Рейгадаса, как носителя двух противоположных и, очевидно, невыносимых начал: мексиканца и европейца. И распространяется шире – на понятие «своего» вообще, его подлинность и профанацию. В «Упанишадах» есть эпизод о древнеиндийском царе Джанаке, который, услышав о пожаре в своей столице, ответил: «Митхила горит, но не горит ничего, что есть мое». Невозможно полноценно ощущать «я» и «мое» как Джанак, не родившись в индийской культуре. Тем больнее мысль о мучительном фиаско интеллектуалов, стремящихся «припасть к корням», обратиться к древним духовным практикам, к восточной философии.
Эстер, «поглощенная» Филом – не только страшное повторение Истории, но и фактическое признание добровольности современного «поглощения», ассимиляции с западным образом мысли
Ведь бык Будда уже окровавил рога о брюхо лошади, не задумавшись о том, как его обозначили белые люди. Безоценочный Будда – по праву природы, не имени. А полотно над ложем умирающего буддиста (по убеждениям, не по рождению), приятеля Хуана, неожиданный и неуместный здесь рококо-сюжет в стиле Ватто — и вовсе как гром среди ясного неба. Как парящий культурный бэкграунд, от которого не избавишься. И как признание «человеческого», скрытого за богемностью взглядов: тяги к комфорту, стабильности чувств, удовольствиям и впечатлениям (так, авангардный концерт для литавр, реальное произведение Габриелы Ортис, во время которого Эстер переписывается с Филом, воспринимается как пограничье «высокого» и развлечения, как проблема восприятия искусства). Потому плачет Хуан, обводя взглядом комнату умирающего (тот в кругу друзей, все поют и смеются, рядом любимая женщина, несущая в себе его продолжение, ребенка, в сердце – вера): он не только жалеет себя и свой брак, но и свое «изнасилованное» разумом сознание. Понимает всю тщетность своих притязаний на первоначало, бессловесный язык, мировой океан. Митхила – его, и она догорает.
А над ночным Мехико, раскинувшимся под чьим-то спокойным и долгим (пожалуй, что вечным) взором, несутся «фрагменты любовной речи». Откровения электронных писем (как выскажешь устно?), объяснений и слов, пытающихся очень точно определить все то варево, что томится внутри, но неизбежно впадающих в опрощение: «боялась остановиться», «потеряла себя». И не дать ведь почувствовать свою душу другому, не прибегнув к словам. Проклятие homo ratus, человека разумного. «Мысль изречённая есть ложь». В детстве бусины ожерелья рассыплются вдруг по засохшему илу, закатятся в трещины, откуда их предстоит извлечь – скажешь: «Как хорошо, что это грязь, а не ножи». А теперь все – ножи, но и это не выразить.
В мятущейся исповеди, сотрясающей небо, смешиваются все времена: невозвратом тоскует прошлое, а грядущее зыбко. Время жизни несется вперед и утрачивается, замедляется и обретается вновь. Время смотрит на нас, растворенных во времени. А мы смотрим на время, творимое в нас – и вне нас. Время человеческое и природное, интимное и мировое, культурное и архаическое, ограниченное и бесконечное, физическое и божественное, «мое» и всеобщее. Всегда «настоящее», вместившее и непрожитое, и прожитое. Детство и старость («внесюжетный» эпизод о дряхлом мексиканце, рассказывающем детям о чьих-то таинствах на смертном одре, о четырех стихиях и какой-то волшебной палочке). Рождение и умирание. Разум и чувства. Искусство и корриду. Горы и соус (рецепт для служанки по неизменной рации, атрибуту силы Эстер). Слова и молчание. Воспоминания и предчувствия. Бусины и ножи.
Наше время – все, что есть во Вселенной. А значит, и мы.