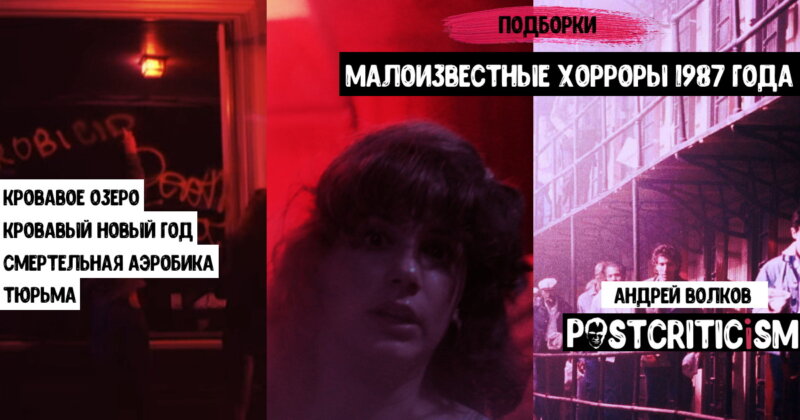Глеб Тимофеев рассказывает о «Впусти меня» Томаса Альфредсона и Мэтта Ривза и сравнивает фильмы с первоисточником
Оскар – омежка с психосоматическим энурезом и жертва школьных обструкций, дитя развода, вечный изгой. Воскресный папа – алкоголик, матери свойственны так раздражающие интровертов гиперзаботливость и участливость. Днем жестокие одноклассники заставляют его визжать, как свинью, ради развлечения, а вечером в своём богом забытом районе Оскар отводит душу, собирая газетные вырезки об убийствах, и кромсает деревья, воображая на их месте обидчиков и мечтая о вудуистском телекинезе. Однажды во дворе он встречает Эли – она только переехала с отцом в соседнюю квартиру. От неё странно пахнет, она никогда не мерзнет и не празднует дни рождения, зато умеет собирать кубик Рубика, с радостью перестукивается морзянкой и советует всегда давать сдачи. А «отец» тем временем собирает в канистры кровь неудачливых прохожих – добывает для Эли пропитание, в надежде на редкую ласку..
Вампиры в современной культуре – едва ли не самая популярная из универсальных метафор. Вампиризм олицетворяет все, что можно: злодейство, аристократизм, искусство, зависимость, дефлорацию и политические режимы. Наверное, чаще всего под жаждой крови понимают любовь – то жадную и по-первобытному нерассуждающую, то романтично-декадентскую, но практически никогда – первую, нежную и допубертатную, очень редко удается взглянуть на монстров глазами ребенка. И вряд ли у кого это выходило лучше, чем у шведа Юна Линдквиста в нашумевшем романе «Впусти, кого нужно» – экранизированном дважды, на родине автора и в Голливуде. По фильмам очень удобно изучать различия между киношколами, выносить приговоры и ставить диагнозы – однако именно первоисточник способен в какой-то мере примирить их между собой. По крайней мере фильмы используют разную тональность, зато книга включает в себя обе.
В кои-то веки предъявлять претензии по поводу вырезанных из литературной основы сцен вроде бы нет нужды или желания: роман полон излишних подробностей, неряшливых аллюзий и навязчивых эдиповых перверсий, в которых больше шок-контента, чем емкого и хлесткого символизма. Компания алкоголиков, занимающая едва ли не пятую часть истории, может сколько угодно олицетворять равнодушие, пассивность и мещанство, в конечном итоге всё сводится к голым сюжетным функциям. Пусть остаются за кадром целые важные линии: в основном, параллели у героев с отцовскими фигурами, которые подростки решают впускать или не впускать в свою жизнь – в конце концов идею того, что родители не могут быть заговорщиками, защитниками и друзьями, посвященными в общую тайну, можно выразить проще и нагляднее. Значительная доля обаяния книги заключается во внутреннем монологе, блестяще отражающем эмоциональные качели этапа взросления, внутренний мир ребенка, скорый на выводы и категоричный в симпатиях и антипатиях, сочетающий жестокость с милосердием, объединяющий мечтательность и безжалостность. И именно это настроение стремятся сохранить постановщики – главным образом, конечно, Альфредсон.
История выглядит очень близкой, очень универсальной – нечто подобное могло происходить в соседнем парке, в любой точке мира. На ощущение близости и интимности играют и сверхкрупные планы детских лиц – художественный прием настолько частый, что воспринимается на грани злоупотребления
Скандинавский фильм открывается сценой, в которой Оскар угрожает ножом воображаемым обидчикам и видит в окно, как в универсальное захолустье (оно похоже на что угодно – хоть на Швецию, хоть на Братиславу, хоть на Мытищи) прибывают соседи. Видно, что для режиссёра это главное – попытаться перевести в киноязык мироощущение подростка, показать в динамике обретение уверенности в себе, раскрыть метафору названия с максимальным тщанием, иногда даже пренебрегая художественными средствами кино для большего соответствия букве литературной композиции. Например, эпизод с алкоголизмом отца Оскара просит переноса в первый акт, для более выпуклого описания причин интровертности и замкнутости героя, но остается в третьем, работая сюжетным костылем. Сцены сменяют друг друга без плавности, их не связывает ни музыкальная тема, ни драматургические артефакты-заплатки, и смотрится это очень по-литературному, переворачиванием страницы или открыванием новой главы. Никакого нарочитого саспенса, элегичные мелодии сменяются умиротворяющей (или пугающей – по обстоятельствам) тишиной, а тишина наполняется бытовыми звуками: к примеру, льющейся крови. Естественность на грани неореализма очень идёт истории, лишний раз работая на камерность и интимность: в этом подавляющая часть её обаяния. Убийца выглядит как типичный пенсионер и собирается на дело, как в булочную – спокойно и деловито. Банка с серной кислотой «на крайний случай» выглядит так, будто еще вчера в нее закатывали огурцы. Канистра со следами крови, обшарпанная, и Хокан не может установить её ровно, а на заднем плане буквально в ста метрах ездят автомобили. Он торопится, спотыкается на снегу, второпях забывает емкость с добытой из жертвы кровью и убегает в лес, оставляя чудную мизансцену с белым пуделем, удивленно глядящим прямо в камеру. Всё – статичной камерой, неряшливыми планами, заметно минимальным количеством дублей.
История выглядит очень близкой, очень универсальной – нечто подобное могло происходить в соседнем парке, в любой точке мира. На ощущение близости и интимности играют и сверхкрупные планы детских лиц – художественный прием настолько частый, что воспринимается на грани злоупотребления. Вампиризм Эли выступает в качестве метафоры изоляции и инаковости, и параллелится интровертностью Оскара. Удачный кастинг – краеугольный камень фильма: оба главных героя имеют андрогинный вид, внешностью обеспечивая полярность, визуальный антагонизм друг другу. Немного мальчикоподобная девочка и слегка женственный мальчик, темные кудряшки Эли контрастны светлому каре Оскара, и даже голоса играют на эту контрастность (вместо Лины Леандерссон озвучку персонажа осуществила другая актриса), что очень роднит шведское кино с первоисточником. И оперирует оно не столько безжалостной прямотой, сколько необязательными, компромиссными намеками. За кадром оказывается и похоть как движущая сила, и много противного, но в принципе неважного натурализма. Эли воспринимается потерянным ребенком, а не коварной соблазнительницей, и хотя дважды Оскар видит на месте своей подруги бесконечно старое, усталое существо, вынужденное притворяться маленькой девочкой ради выживания (для пущего эффекта мимолетно мы видим лицо взрослой актрисы, практически Линчевского «Боба») – сохраняются такие милые, родом из книги неоднозначность, искренность и пронзительность.
С фильмом Ривза ситуация иная: воспринимается он, как приквелы «Звездных войн» – то есть лучше всего в том случае, если смотреть его первым, а то волей-неволей вспоминается анекдот, когда в версии сплетника N для сплетника N+1 Пушкин, поддерживающий за локоток оступившуюся супругу, превращается в мастурбирующего на фонаре Гоголя. Режиссер как будто стремится выразить восхищение шведским кино, но пропускает лучшее, что в нём было. Ривзу хочется поправить неровности, как умелому реставратору, а выходит, как у Мистера Бина, впору заменять плакатом – никто же не заметит разницы. Здесь показательная открывающая сцена: постановщик американской версии стремится скорее проявить профессионализм, чем художественный вкус – при всей нежности к скандинавоскому оригиналу важнее оказывается выстроить композицию с крючка, с зацепки флешфорвардом, чем обозначить приоритеты и арки персонажей. Там, где Альфредсон давал весь контекст исчерпывающей парой кадров, работая с молодым актёром, и зрители могли прочувствовать его боль и обиду, Ривз выдаёт антураж хоррора – делая жанровое, по учебнику, кино. Герои меняют имена и место жительства, и уютное нигде сменяется пространством киномифа, где вместо естественного освещения оригинала – чернильная темнота, и хочется сломать чертову четвертую стену. В уши льётся назойливый, незатыкающийся белый шум саундтрека – иногда нервирующий, механически нагнетающий саспенс, иногда разбавляющийся пошлым хором, и хочется захрустеть его попкорном.
Римейк снят очень классно, профессионально, мастеровито и деловито. Все конфликты стали выпуклее: интровертность и вуайеризм Оскара (Оуэна) усилены телескопом, соседи не просто алкаши, а буйные, за ужином мать читает молитву – а чтобы исключить необязательные эпизоды, выпиывает тоже она, участие отца ограничили одним телефонным разговором. Эли – мрачная, её «папа» – зловещий. Хулиган нагло препирается и с учителями в том числе, и вообще – это такой супер-собирательный хулиган, воплощение самой идеи о хулиганстве. В качестве унизительных обструкций Оуэну натягивают трусы – для понятности. Хулиган требует его не закладывать – для понятности, пофигу на интровертность и собственное нежелание объясняться. Оскар стоически терпел издевательства – Оуэн плаксиво вопит о пощаде. О профессионализме не дают забыть: первая попавшаяся неряшливая одежда второстепенных героев сменяется именно что реквизитом: шелковыми халатами, модными сорочками. Никакого псевдослучайного расфокуса, только нарочитый и подчеркнутый. Только выглядит это довольно натужно и неестественно: например там, где с очень дальнего плана шведский Хокан спотыкался на снегу практически случайно, американский крупным планом поскальзывается, как поскальзывался бы деревянный манекен – скованно, неловко, напряженно, с тридцать третьего дубля. От фирменных сверхкрупных планов оригинала было ощущение, что лица просто не помещаются в кадр – они слишком велики, слишком хороши для него. Здесь такие планы тоже есть, но не очень понятно, зачем – то покажут ухо, то пять раз грязные босые ноги.
С фильмом Ривза ситуация иная: воспринимается он, как приквелы «Звездных войн» – то есть лучше всего в том случае, если смотреть его первым, а то волей-неволей вспоминается анекдот, когда в версии сплетника N для сплетника N+1 Пушкин, поддерживающий за локоток оступившуюся супругу, превращается в мастурбирующего на фонаре Гоголя
Остается впечатление, что у Ривза получилась попытка следовать скорее букве оригинала, чем духу. Смена контекста отразилась только на мелочах – таких, что политическая чушь льется из телевизора, а не из уст алкашей (что, как известно, в тысячу раз убедительнее), или испанский физрук-мигрант превратился в восточноевропейского, в остальном же упор на новую фактуру до обидного отсутствует. При этом обиднее всего даже не за нарушение мифологии – к примеру, Эбби спокойно входит в больницу без приглашения, и не за отсутствие альбома с газетными вырезками, ключевого для личности Оуэна, и даже не за нелепую атаку на американскую версию Вирджинии – при свидетеле (кстати, зачем она Вирджиния? Зачем ссора? Зачем одинаковый вывод при различной завязке?). И даже не за то, что один из лучших кадров оригинала – с почти экстатическим удовольствем на лице Оскара при отмщении обидчику ударом в ухо – здесь отсутствует. Обиднее всего, что при смене подхода жанрово на хоррор Ривз не удосужился вытащить из первоисточника самое сочное, сообразное именно его видению истории. Никто не требует смелости до уровня педофилии или кастрации, тем более что и в литературной основе их символизм довольно неряшлив – но эпизоды с укусом женщины, больной раком и употребляющей морфий, или сцены в морге, или сцены истерическго размозжения черепа призом «за лучшую стрельбу» смотрелись бы органично, мощно и красиво для фильма ужасов. Там этих вырезанных сцен – на целый фильм. Причесывать видение Альфредсона не требовалось, а своё видение получилось слишком уж необязательным.
К безусловным плюсам американской версии можно отнести позитивную находку относительно образа Хокана: он с Эбби с детства, как и Оуэн, в отличие от книжного педофила. Такая судьба намного страшнее и безжалостнее. Девочка-вампир в исполнении Хлои Морец куда больше неистовый убийца, чем ребёнок, и в ней честно видится расчтеливый монстр – в это верит Ривз, в пользу этого прочтения он делает свой выбор. Конечно, в диалоге «Я не девочка» – «А кто?» – «Никто» веришь Лине, а не красотке Морец, но для выбранной парадигмы это и неважно. Можно в связи с версией 2010 года вспомнить байку о том, как Ильф и Петров советовали Булгакову убрать Пилата и Мастера и сделать роман про команду Воланда – и вышла бы, по идее, отличная, но совсем другая история. Но по большому счету фильмы хорошо дополняют друг друга и книгу, образуя триумвират взглядов, интересный и с точки зрения культурологии киношкол, и с точки зрения просто зрительного разнообразия. Шведская неряшливость, пусть и выглядит следствием микробюджетности, смотрится очень органично и трогательно, что идёт истории на пользу – при этом выигрывает еще и художественным вкусом: ракурсами съемки, постановкой, проработкой персонажей. Многое осталось за кадром – социальные проблемы, мигранты (в которых многие сумасшедшие склонны видеть метафору жажды крови), истерия, короткая память социума и равнодушная пассивность. Однако все это, в общем, неважно. Куда важнее история двух одиночеств – без взрослого цинизма, вместе против всего мира. И когда Эли отрывает обидчикам Оскара головы – она не только связывает кровью лучшего друга, не только определяет его дальнейшую судьбу – она мстит вселенной за свое вечное фальшивое и несчастное детство.