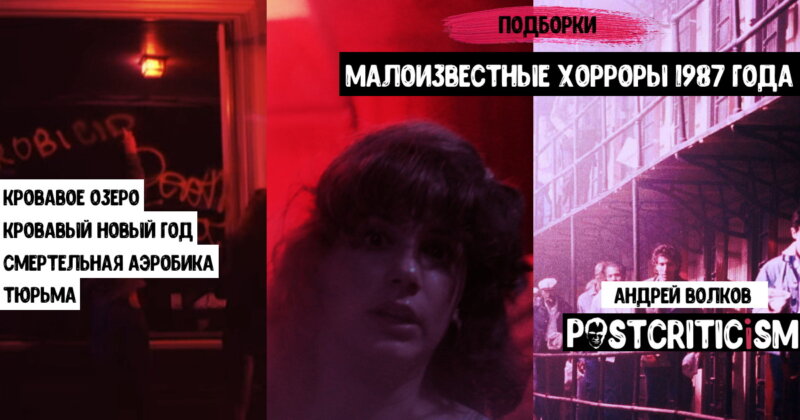Эрик Шургот рассказывает о социальных драмах из Малайзии и Турции
Кинематограф, снискавший негласную славу самого нецензурируемого искусства, все чаще становится площадкой для привлечения внимания к проблемам отдельных социальных групп, отодвигая непосредственно искусство на второй план. С каждым годом подобных фильмов снимается все больше, они становятся обязательными атрибутами кинофестивалей, часто отмечаются престижными премиями – вполне достойная попытка привлечь внимание к тому, на что в повседневной рутине зритель просто привык закрывать глаза. Кино, воспринимаемое ханжами исключительно как чернуха. Оно вообще всегда рискует остаться лишь гласом вопиющего в пустыне. Но это одновременно и глас того, кто не в силах больше молчать и готов хотя бы рассказать всему миру – живут и такие люди, и есть и такие проблемы. Рассказывают чаще всего топорно и грубо, забывая о том, что кино – это в первую очередь творчество, а уже потом манифест.

«На маленьком плоту» малазийца Тань Сэн-Ката рассказывает трагическую историю юноши по имени Кьян, живущего с больной матерью и маленькой сестренкой. Кажущиеся беззаботными будни парня наполнены постоянной суетой. Денег нет, работы тоже, мать сходит с ума и отказывается пить таблетки. В этом мраке сияет единственной радостью крошечная жизнь – беззаботная птичка, порхающая вслед за старшим братом среди трущоб и едва ли еще осознающая всю тягостность своего положения. Ей все внимание, любимую потертую игрушку и даже пирожные в день рождения, купленные на краденные ради пропитания деньги. Но вся безмятежность босяцкой жизни исчезает спустя минут пятнадцать экранного времени, уступая место холодному реализму. Сэн-Кат не просто так в самом начале своей картины «убивает» самого светлого и самого юного героя. Едва ли не единственная метафора тут упирается в ничтожность человеческой жизни, зажатой тисками мегаполиса, в котором особняки уже вполне привычно соседствуют с нищими кварталами. Большую часть фильма занимают попытки Кьяна забрать тело своей сестры из морга, минуя бюрократическую волокиту. Скитания по городу в поисках поддельных документов и таблеток для все больше впадающей в безумие матери ближе к концу становится все более бесцельным. Никто не хочет помогать, «входить в положение». Или что там еще просят, отчаявшись?

Трагедия Ибрагима, героя ленты «Желтая жара» турецкого режиссера Фикрета Рейхана, на первый взгляд не столь очевидна и не привязана к конкретной ситуации. В стартовой сцене зритель видит черепашку, над которой герой издевается, не давая животному перейти шоссе. Грубоватому реализму «Желтой жары» предшествует определяющая весь фильм метафора невозможности человека повлиять на собственную судьбу. Сын нелегального иммигранта, осевшего много лет назад в глухой турецкой провинции и угодившего в кабалу, всю жизнь свою вынужден горбить спину на полях, помогая отцу и брату кормить большую семью. Пересказ сюжета не займет и пяти минут. Рейхану важнее погрузить зрителя в безрадостный быт постоянно живущих в долг фермеров. В Ибрагиме кипит еще молодая кровь, он хочет вырваться, получить права, стать дальнобойщиком и уехать, но против этого восстает отец, отчаянно желающий сохранить ферму, дни которой сочтены. Извечный конфликт отцов и детей по Рейхану обретает форму противостояния оседлости и стремления начать новую жизнь. Страшно то, что ближе к концу фильма становится ясно – все усилия отца и сына, как вместе, так и порознь, совершенно напрасны. В первой сцене Ибрагим оставляет черепаху лежать на шоссе на панцире. Животное вынуждено беспомощно ждать, барахтаясь лапами, спасет ли её следующий путник или размажет об асфальт проезжий автомобиль. Все старания главного героя по сути те же самые конвульсии, что совершает обреченная черепашка.
Помимо принадлежности главных героев к бедной прослойке общества, фильмы малазийца и турка роднит уход от кинематографичности в пользу сухого гиперреализма. Обе ленты подчас трудно смотреть лишь потому, что они не насыщены событиями. У Рейхана больше половины экранного времени занимает быт, у Сэн-Ката – попытки Кьяна пробить бюрократические стены и найти помощь и сочувствие. При этом Кьян и Ибрагим – персонажи спорные. Первый, оказавшись в ситуации, зеркальной той, что отняла жизнь сестры, так же трусливо бежит, желая не знать, что натворил. Второй не считается с интересами вырастившей его семье, подставляет родного отца, но все равно остается в его доме, в душной от жары комнате. Что характерно, оба фильма обрываются, так и не достигнув какой-то результирующей кульминации, но оставляя зрителя в полном ощущении безвыходности. А вот что показательно, так это использование обоими режиссерами лейтмотива жажды. Вода обоих фильмах играет важную роль. В малазийских трущобах за привозимую раз в неделю воду разгораются жаркие споры. Живительную влагу воруют у соседей и набирают тайком в туалетах торговых центров. На пыльных турецких полях работники тоже никак не могут напиться. В кадре постоянно оказывается то чай, то минеральная вода, привозимая Ибрагимом. Обездоленные люди могут работать бесплатно, но не готовы работать без воды. Именно чувство жажды становится определяющим для героев, которые, подобной той самой черепахе, думают, что могут что-либо изменить. Страшнее всего-то, что подобного рода обращения к миру через кинематограф так же вряд ли что-то изменят. Хотя это вовсе не значит что нужно заклеить рот пластырем и зашить веки нитками.