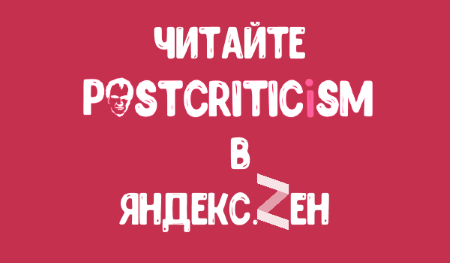Трудно найти, легко потерять
Медея (Medea), 1969, Пьер Паоло Пазолини
Илья Кугаевский – о классической картине Пьера Паоло Пазолини
Ooh, ooh love hurts
Nazareth
Если уподобить развитие культуры траекториям небесных светил и принять популярный тезис, будто у всякой эпохи есть свои классика, модерн и даже постмодерн, то автор “Медеи” Еврипид, вероятно, окажется одним из первых литературных постклассиков. В самом деле, он очень рано почувствовал тот легкий ветерок, что обратится бурей и символически разметает по побережью сначала миф, затем логос, а после всю цивилизацию великих греков. Античная трагедия была крепким жанровым сооружением с опорными тематическими колоннами, в смысловом центре всякого текста располагались судьба и справедливость – сертифицированные (как минимум, Эсхилом и Софоклом) по критерию глубины вопросы. Еврипид подходит к делу с нахальной дионисийской ухмылкой, превращает рок в случайность, топит мораль в песках релятивизма. На передний же план выходит такая странная штука, как чувства между мужчиной и женщиной – казалось тогда, проблема нулевого экзистенциального градуса, безынтересная бытовая подробность вроде фасона сандалий. С некоторой точки “Медея” – это вообще первая серьезная литература о любви, если, конечно, не учитывать тот нелепый гормональный всплеск, из-за которого якобы случилась Троянская война. По крайней мере, первое произведение, где достоверно изложена неаристотелева логика семейной ссоры.

Кадр из фильма “Медея”
Спустя тысячелетия в игру вступает Пазолини, по-марксистски грубо распрямляет античный уроборос циклического времени в ленту гегельянского соцпрогресса. Итоговый результат – двойное преломление классического мифа о любимой внучке Гелиоса. Поначалу Медея в этом фильме не имеет почти ничего общего с человеческим родом, главная героиня влетает в кадр антропоморфным аспектом божественной силы, кропит окрестности диким пламенем, под ней клокочет и пузырится сама земля, позднее для этого придумают изящный термин с полярно ласковой фонетикой – genius loci. Прибывший из-за моря Ясон не без помощи Эроса укрощает горячую женщину и, как водится, предлагает переехать к нему, только вместо ромкомовского хэппи-энда здесь откроется новая мифологема. Троп о примордиальных гигантах, о существах, что приходят в наш мир из глубокой древности и вдруг перестают в нем умещаться, затухая отзвуками домифологических эпох. И текстуальный вопль героини, что, покидая родную Колхиду, теряет память о теургических практиках, а после не может обжиться в Коринфе, изображен закипающим в кинорамке взглядом прекрасной Марии Каллас. Взгляд прожигает кинопленку, страницы, любую реальность – и реальность стонет от боли. Медея – единственный персонаж, восставший против автора.
Хотя, казалось бы, здесь должен был сработать старый трюк: точно как подлинные сумерки идолов начались с вульгарного очеловечивания, с нарративных кандалов, выкованных религиозными текстами для языческих божеств, прирученная, обновившая гардероб Медея могла стать примерной женой и даже простить своему неблагодарному, до жути нарциссичному супругу полигамные склонности. Однако вспомним, перед нами двойной временной излом. Античная смыслообразующая машина сопит и скрежещет, все вокруг слишком изменилось. Распались миф, логос, с ними чувства и даже материя. А ведь когда-то была идея неделимости. Ясон, лаская Медею, перемещаясь по локусам женского тела, от шеи к ногам, точно знал, что перед ним весь небесный космос, вместилище трансцендентного. Пазолини снимает в эпоху, когда сакральная сексуальность уже разбита на эрогенные зоны, в эпоху пластических операций и всего за несколько десятилетий до того, как второсортные певички начнут страховать излишки плоти на миллионы долларов. Пути назад нет. Да, конструкт романтической любви здорово переоценен – то, что считали бозоном Хиггса западной культуры, оказывается исторической вспышкой. Убийственно красивой, но вспышкой.
Пазолини снимал в эпоху, когда сакральная сексуальность уже разбита на эрогенные зоны. Пути назад нет. Да, конструкт романтической любви здорово переоценен – то, что считали бозоном Хиггса западной культуры, оказывается исторической вспышкой. Убийственно красивой, но вспышкой
Далеко не во всех европейских языках сохранилось хорошее глагольное обозначение происходившего с Медеей, лингвистическая редукция – дама беспощадная. Но кое-что осталось, например, tomber amoureux или to fall in love. “To fall”, yep, все предельно просто, настоящая love неотделима от fall, от падения в бездну – не ницшеанскую, не юнгианскую; ту самую, из старейших теогоний, где хтонические порождения, рыча и извиваясь, будут трепать внутренности до кроваво-алых лоскутов души. Все, что кроме – банальное crush, робкие поцелуи у школьной стены и тушь, размазанная под идиотскую песню престранного жанра “поп-панк”; счастливым парам никогда не выдадут онтологический паспорт. Здесь изнанка больших рассказов; невозможная топология, здесь Авраам зарежет сына просто так, ни для чего, и сгинет в бессобытийной тишине, а роза Парацельса останется горсткой колючего пепла. Здесь Росс, черт возьми, не встретит Рейчел. Фильм Пазолини, помимо очевидного запуска серии левацких сказок про культурную апроприацию, шлет мрачное письмо в будущее для незаметно осиротевших детей двадцатого века. Мы родились в мире, где любовь еще была, и уходим в мире, где любви уже никогда не будет. Лишь вечное ожидание, что солярный бог спустит с небес колесницу. Но ее вырезали монтажные ножницы.
У могил миллениалов не цветет терновник.