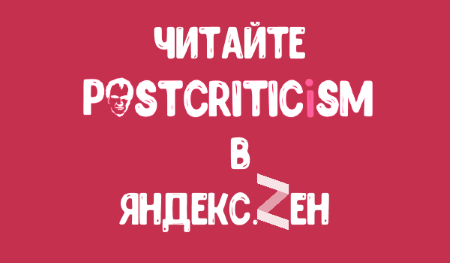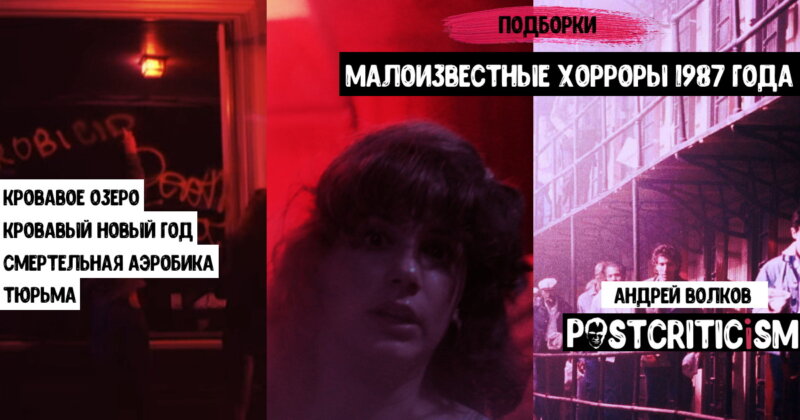Александра Шаповал вспоминает лучшие фильмы 2018-го года
25. «Отель у реки»

Погрустневший Хон Сан Су снимает о старости (конечно же, поэта) и его моральной подготовке к смерти. В нежной элегической зарисовке к привычной философии маленьких радостей — со всеми её житейскими мелочами: встречами в кафе, питьём сончжу, пространными разговорами, сложностями взаимоотношений — примешиваются большие и горькие, неизбежные с течением времени, утраты.
24. «Пепел – самый чистый белый»

Цзя Чжанке, как и прежде, занимается осмыслением национального китайского «чуда». Через обращение к маленьким провинциальным судьбам проникает в масштабы исторических и социально-экономических процессов, затрагивающих несколько последних десятилетий. Обнажает изнанку — растущие пустоту и отчуждение человека перед лицом изменений, которые, кажется, по сравнению с предыдущими лентами, заметно усилились.
23. «Работа без авторства»

Визуально старомодная драма большой формы, рассказывающая о пути художника (реальный прототип – Герхард Рихтер) — с детства до зрелости, сквозь историю и режимы, от соцреализма к contemporary — со всем катарсисом гуманистического пафоса. Идеальное «зрительское» кино для тех, кто не любит поп-корн. Изящно работает на эмоциональном уровне, обращаясь к чувству «прекрасного». Напоминая о том моменте ритмической гармонии с миром, который лежит вне любых систем и идеологий. А ещё о том, насколько условно и подвижно понятие «нормы».
22. «Моего брата зовут Роберт, и он идиот»

Нетривиальное и неожиданное проявление немецкого романтического духа. Четырёхчасовая теоретическая подготовка брата и сестры к экзамену по философии, вылившаяся в шокирующую практику познания окружающего мира. Не-фильм, но философский эксперимент по замедлению времени. Работающий исключительно с рацио и вырабатывающий стоицизм в подлинном проживании скуки (всё остальное после — ерунда).
21. «Другая сторона ветра»

Возвращение с того света, воплощённая киномечта Орсона Уэллса, завершённая энтузиастами после его смерти — фильм, важный своей экспериментальной смелостью. Радикально мелкая монтажная нарезка (средний кат – 1 м/с!), сочетание разных ракурсов съёмки, форматов плёнки и цветов — полифония точек зрения на главного героя, культовую фигуру большого автора, о котором студенты и прочие синефилы на вечеринке снимают своё кино. А внутри этого мокьюментари-капустника — сам незаконченный фильм этого автора. Иронично, что в эпоху провозглашённой смерти кино, живее живых по киноязыку оказывается фильм мертвеца, да ещё воскрешающий эпилептические конвульсии Нового Голливуда.
20. «Они никогда не станут старше»

Вручную раскрашенные и «оживлённые» архивные фотографии солдат Первой мировой войны на фоне не замолкающих ни на секунду голосов и историй — лучшая метафора войны, многоголосой и многоликой субстанции, магматического потока без единого просвета, остановки и передыха в ритме. Война — всепоглощающий Левиафан, пожирающий своих детей, которых увидеть живыми позволит лишь только память. Не щадящая зрителя от демонстрации последствий милитаризма — трупы, обмороженные ноги, гангрены — как не щадила она юношеского населения, с их наивным патриотизмом. Новое слово в антивоенном кино, с большим уважением к тем, кто попался к ней на крючок.
19. «Долгий день уходит в ночь»

Повзрослевший (правда пока неясно, в лучшую ли сторону) любимец синефилов и «китайский Тарковский» Би Гань воплощает свой талант заклинателя времени-пространства: работает с воспоминаниями, фантомами, символами, сновидениями и прочим полумагическим реализмом, воплощая в размытой жанровой форме гангстерского нуара размышления о течении времени, механизмах памяти и работе ассоциаций. Фирменная сложная однодублевая сцена на сорок минут— гипнотическое путешествие между реальным, воображаемым и символическим. Вот уже дважды увековеченный режиссёром городок Кайли становится столицей мировой памяти, спящей и видящей сны о всех нас.
18. «Двойная жизнь»

Оливье Ассайяс вновь исследует современность, с её призрачными явлениями и цифровыми формами сознания, но уже не в разрезе тонкого тела, как в «Персональном покупателе», а в форме утрированно-жирной публицистики. Фильм, говорящий на языке актуальных социологических феноменов и концептов — о публичной территории шеринга, куда входят уже не только мысли, но и люди, личная жизнь. Симптоматичное кино, дающее ощущение пустоты и глобального вымирания чувств, их замены производственным контрактом.
17. «Время чудовищ»

Живой классик «медленного кино» Лав Диас продолжает листать страницы болезненной истории Филиппин, переосмысливая теперь национальную травму диктатуры Маркоса 70-х годов через призму традиционного национального характера: с его народными песнопениями, наивной верой в духов и святым поиском правды. Всё это в форме гипнотического четырёхчасового эпоса-мюзикла, полного визуальной, поэтической и культурологической образности — и живой, пульсирующей рефреном в такт пению, боли. Универсальное высказывание о чудовищном мифотворчестве власти.
16. «Бесконечный футбол»

Скромная документальная притча представителя румынской волны Корнелиу Порумбойю о мечтателе-энтузиасте, пытающемся изменить правила игры в футбол после полученной в юности травмы ноги, ступает и на почву национальных болей, и на дорожку человеческих. Герой, в обычной жизни работающий в городской префектуре, становится метафорой желания искоренения системного «зла», единственным возможным полем для которого становится мечта. Модель двойной жизни постсоветского сознания в какой-то момент приобретает библейские обертона, становясь экзистенциальной моделью жизни современника вообще. Один из самых нежных фильмов о мечте.
15. «День победы»

Документальные наблюдения Сергея Лозницы в берлинским Трептов-парке 9 мая — неожиданно нежный, хотя задуман быть омерзительным, портрет соотечественника, вся жизнь которого держится на ностальгии по чему-то великому: идее, общности, победе. Отголосок коллективной памяти — народные песни и пляски, способные пронять даже самого ярого противника прошлого, потому что воскрешают народный миф. От памяти не открестишься.
14. «Иванов»

Неожиданная кинематографическая находка — дебют русского бизнесмена Дмитрия Фальковича, некоторое время, спасаясь от власти, жившего в Украине — о его ощущениях в ведении бизнеса и вообще жизни в новом пространстве свободы. Киногеничное маленькое произведение о смертоносном национальном характере, который настигнет своего носителя где угодно. Своим квазидокументальным восприятием реальности, но с внутренним мифологическим масштабом, общей отстранённостью и тихой интеллигентностью напоминает о румынской волне.
13. «Заметки о видимом»

Маленький бруклинский дебют кинокритика Рики Д’Амброуза — странная детективная история исчезновения молодого парня, рассказанная на концептуальном языке в духе Штрауба—Юйе. В первую очередь, это интеллектуальное размышление посредством кинематографической формы об исчезновении как состоянии бытия. Современная экзистенция опосредована знаками — картами, фотографиями, счетами, заметками на полях и видеозаписями — единственными следами присутствия индивида в вечности, его накопленного капитала. Человек без иных свойств, кроме вещной репрезентации, превращается в абстракцию, размытую во времени и истории, плавно уходящую в ничто.
12. «Дом, который построил Джек»

Сверх-персональный художественный манифест, декларирующий полную свободу искусства и мышления, отсутствие для них запретов и ограничений, чёрного и белого. Своеобразное видеоэссе — хроники, цитаты, вставки на абстрактные темы — на фоне сюжета о маньяке обладает амбициями по реформаторству философии, практически равными Ницше. Основная идея Триера (которому можно всё, даже быть устаревшим и усталым) — неразрешимость дилеммы морального выбора, потому что сам выбор — что-то сугубо неправильное, противоречащая природе надстройка. Исследуя генеалогию морали, он обнажает её двойную природу, сталкивая зрителя с необоснованностью «выбора» вообще.
11. «В моей комнате»

Берлинская школа встречает постапокалипсис — тихо, вежливо, без спецэффектов, с мягким юмором и данью литературной традиции. По Ульриху Кёлеру — он для каждого персональный, условно происходящий в отсутствии общества, социальных надстроек и капиталистической системы, выбор пути. Между двумя типами существования — осёдлостью и кочевничеством, одиночеством и семейностью, консюмеризмом и разумным потреблением, природой и технологиями, техно и пением лягушек. Если компромисс между понятиями ещё допустим, то между людьми, выражающими идею, как правило — нет. Адам и Ева, кажется, сегодня были бы попросту невозможны.
10. «София Антиполис»

Другое высказывание о конце света — в форме камерного, нетипичного французского фильма Вирджила Вернье, молодой надежды авторского кино. Во фрагментарной серии полудокументальных – полумиражных плёночных зарисовок, на первый взгляд не связанных между собой, есть общая нить — моральное беспокойство по поводу состояния мира, созерцающего пир перед чумой. Технополис (реальный) на Лазурном берегу Франции становится метафорической моделью «глобальной деревни», мающейся в урбанистическом бездушии, одиночестве и эсхатологическом предчувствии угрозы, выливающемся в поиски всевозможных способов спасения.
9. «Народная республика желания»

Поразительный фильм китайского документалиста Хао У о развитии технологий в Поднебесной и постепенном переходе существования в цифровую форму. На примере сверхпопулярной стриминговой платформы с жёсткой корпоративной структурой и кастовостью передана вся современная картина мира, бессмысленно летящего в тартарары. Это мог бы быть страшный эпизод «Чёрного зеркала» о том, к чему могут привести ошибки, но это будущее уже наступило — и задокументировано. Заставляет в очередной раз подумать, что свидетельства отчуждённости человека от бытия, снятые в Китае— сегодня, пожалуй, наиболее тревожные и апокалиптические.
8. «Акварель»

Масштабный проект о воде Виктора Косаковского — философский трактат в форме документального кино, продолжающий традиции Годфри Реджио — с его трилогией «Кацци». Приёмы художественного наблюдения за реальностью становятся методом для обозначения этической позиции автора. Движущиеся под ревущий металл на виолончелях группы Apocalyptica исполинские глыбины льда — персонажи более гипнотические и динамичные, чем человек. Наблюдение за стихией, во всех её известных формах, произведено технически совершенными и сложными приёмами, в гиперреальном формате 96 кадров в секунду. Ошеломительное напоминание о месте человека в мире, где он, скорее — фигура небытия, а природа — подлинный хозяин. А в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
7. «Слон сидит спокойно»

Опус-магнум Ху Бо, покончившего с собой в 29 лет, оставив навеки свидетельство своего таланта — четырёхчасовое экзистенциальное блуждание по безрадостным, запустевшим и серым задворкам большого Китая. Пересекающиеся истории несчастных и одиноких людей, ищущих среди общего умирания дорогу к жизни, сняты подвижной камерой с небольшого расстояния. Удивительно, что фильм, полный танатоса и тоски, оставляет после себя ощущение соприкосновения с надеждой, с возможностью выхода. Финальная сцена — одна из самых светлых сцен года.
6. «Экстаз»

Головокружительный аттракцион, действующий, как волшебная сангрия. Гаспару Ноэ удалось подмешать ЛСД в саму ткань своего фильма, беспрецедентного по форме — и, возможно, одного из мощнейших по воздействию в его и без того экспрессивной фильмографии. Прямой удар по органам чувств в духе мечтаний Арто, где визуальное и музыкальное важнее смыслопорождающего, эмоциональное — интеллектуального, а коллективное — индивидуального. Мораль отходит на второй план, превращаясь в голое сборище человеческих инстинктов, которые она обычно прикрывает. В вечный танец массового разрушения коллективного человеческого тела. В беспощадный и революционный body-horror.
5. «Дикая груша»

Нури Бильге Джейлан подтверждает связь турецкой культурной традиции с русской. Высокая литературность и провинциальная тоска, долгие беседы о вечном, большие идеалы и мечты, интеллигенты с рукописями и добрые неудачники, молодые нигилисты и реформаторы традиций, отцы и дети, собаки и овцы, дикие груши и шелест травы. Целый космос аспектов человеческой жизни умещается в три часа экранного времени, сплетаясь в тонкий и лиричный роман о взрослении человека, его отношениях с окружающим миром и расставаниях с юношескими иллюзиями. Абсолютно универсальная и глубоко гуманистическая картина, пробуждающая желание взять ближнего за руку.
4. «Вокс Люкс»

Небольшое кино о больших феноменах и силе Рока, личная травма как портрет коллективной — фирменный стиль Брэйди Корбета, после механизмов зарождения фашизма («Детство лидера») обратившегося к явлению поп-культуры. Жажда внимания, порождающая культурный, а затем и настоящий терроризм — тёмная материя, кроющаяся за рефренами и блёстками тех, кто продаёт своё творчество как откровение. История восхождения поп-дивы выглядит как летопись становления Антихриста, трактат о грехопадении человечества — и звучит в тональности вертикальной античной Трагедии.
3. «Закат»

Исторические события как культурологический триллер. Захватывающая атмосферно, ритмически, дарящая пульсирующее ощущение духоты и нервозности, подозрительности и распада связей, безумия и полнокровного заката эпохи, картина Ласло Немеша погружает в Будапешт последних дней Австро-Венгерской империи тактильно, со спины. Работая с тем же художественным методом, что и в «Сыне Саула», венгерский режиссёр втягивает зрителя в события на правах участника на совершенно новом уровне напряжения — впуская в кадр настоящий Рок. Динамика дантовских блужданий за героиней по лабиринтам большой Истории сжимает сердце осознанием хрупкости мира и незастрахованности маленького человека от других непредвиденных закатов.
2. «Транзит»

Тревога по поводу хрупкости и нестабильности мира — в форме условного, а оттого ещё более актуального, действия. Представитель «берлинской школы» Кристиан Петцольд превращает время в иллюзию, безвременье — в убедительный метод. Миграция из Парижа времён немецкой оккупации идёт в современных реалиях и декорациях, превращаясь в высказывание о фантазматичности любого мира, таящихся в любой памяти «чёрных комнат», готовых всегда открыться и вылиться в новую историческую беду. Интересно, как отсутствие территориальных границ у других «берлинцев» (в первую очередь, Шанелек) оборачивается в «Транзите» их жёстким, практически кафкианским, выстраиванием. Иллюзии европейской прозрачности рассеиваются, а свобода и безопасность перед лицом Истории превращаются в вечную транзитную зону, выход из которой затруднён.
1. «Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары»

Румынская волна под радикальным углом — проживание коллективной травмы, но не в привычном направлении (боль советского наследия и его свержение). Исследователь истории Раду Жуде осмысливает табу — сотрудничество Румынии с СС в ходе Второй Мировой войны и массовое уничтожение евреев — в форме социального перформанса. Брехтианское остранение — площадный исторический спектакль, архивная хроника и музейные экспонаты, долгие интеллектуальные диалоги, целиком прочитанная по Скайпу страница из Бабеля — даёт в финале эмоциональный катарсис. Идеологии могут меняться, но народные стереотипы остаются прежними. А из них способен родиться новый фашизм. Чтобы изменить режим, необходимо изменить восприятие человека, которому на всё плевать — довольно смелый по честности вывод для сегодняшнего дня.