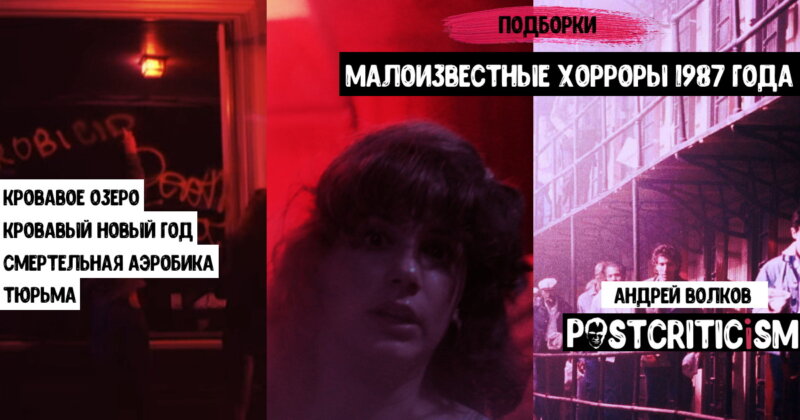На холмах Грузии
Изгнание, 2007
Где-то. Когда-то. Прожив земную жизнь до половины, человек по имени Алекс купил мотыля и поехал в загородный дом, прихватив с собой жену Веру и двоих детей. Совместный отдых испортит признание Веры в супружеской измене с незапланированными последствиями – растерянный Алекс обратится за консультацией к старшему брату, старший брат расскажет о свободе воли, свобода воли приведет к печальным последствиям. Все ружья выстрелят, запретный плод будет съеден, крылатые качели разберут на металлолом, а рай закроют на переучет. Сеанс окончен, all men must die. Маэстро, урежьте марш!
Рассматривая жизнь сферической семьи в вакууме, главный русский режиссер современности приходит к неутешительному выводу — хорошее дело браком не назовут. Один-единственный поворот не туда неспешно раскручивается в полноценную античную трагедию, а сонная драматургия выводит камерную историю на уровень весьма масштабных и амбициозных обобщений. Непростые взаимоотношения внутри отдельно взятой семьи отражают всеобщую отчужденность, а сама эта семья служит символом мира, где ад это другие, и у каждого в душе дыра размером с Бога.
Волшебная камера оператора Кричмана облетает лица и пейзажи, дети торжественно зачитывают Первое послание к Коринфянам, Лавроненко флегматично отыгрывает второе режиссерское «я», а Мария Бонневи — вылитая Лив Ульман. Отдельного упоминания заслуживает дотошная работа с интерьерами — каждая стена здесь выполнена настолько художественно, насколько это вообще возможно в принципе. Кто-то, должно быть, назовет пижонством подобный дизайнерский перфекционизм, но по большому счету стремление к столь тщательной работе над пространством кадра заслуживает одного только уважения. Словом, перед нами типичный Звягинцев — из каждого второго плана торчат уши Тарковского, медитативная живописность сочетается с несколько навязчивым символизмом, а примат формы над содержанием смягчается обилием аллюзий и реминисценций.
Не стоит, впрочем, удивляться прохладному приему, который был оказан «Изгнанию» публикой и критиками — жонглирование бродячими библейскими сюжетами не спасает это безбожно долгое и возмутительно многозначительное кино от холодного постановочного формализма, а пресловутые три единства превращаются тут в безвременье и бездействие посреди пустоты. Режиссер говорит о любви («Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий»), но любви здесь не слишком много, что только подчеркивает безжизненная красота кадра. Ну нельзя, нельзя быть на свете красивой такой, нельзя заменить мысли, чувства и эмоции безукоризненными визуальными эффектами.
Дело даже не в условности всего происходящего, дело в вопиющей неестественности героев, нужных, кажется, лишь для того, чтобы на их лица эффектно падал свет. Прицеливаясь в вечность, Звягинцев лепит нарочито абстрактный мир из церквушки неопределенной конфессиональной принадлежности, потрепанного временем шале и провинциального городка с трубами и граффити, но в результате возведенные посреди слепого ничто декорации оказываются лишь симулякром, набитым душеспасительными банальностями чучелком, из которого только перья летят.