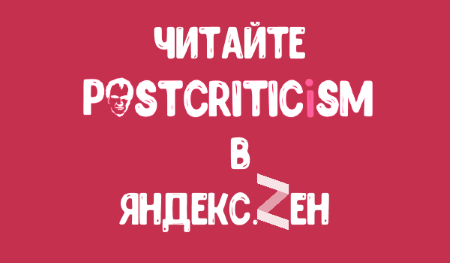Охотник на оленей (The Deer Hunter), 1978, Майкл Чимино
Александра Шаповал об этапном фильме Майкла Чимино
Между человеком и потоком
В 1975 году закончилась война во Вьетнаме, а в 1978 году вышел «Охотник на оленей» Майкла Чимино, один из первых фильмов о травме общества, в частности — обычных «маленьких людей», жителей американской глубинки. Сталевары русского происхождения в городке Клэртон, штат Пенсильвания — их играют большие актёры Роберт де Ниро, Кристофер Уокен и Джон Сэвидж — на волне патриотических настроений записываются в десантники, а возвращаются инвалидами, призраками и мертвецами. Что-то умирает и среди оставшихся (среди них Джон Казале в последней роли, Джордж Дзундза, Чак Аспегрен и великолепная Мэрил Стрип). Былое равновесие недостижимо, но есть надежда на новое единство. У Чимино она прямо заявлена, и это другой взгляд на Вьетнам, более житейский, чем скоро предложит Коппола в «Апокалипсисе сегодня», философском прочтении природы войны как порождения безумия человеческой воли. Надежда — в витальности к переоткрытию обыденности после падения в ничто.
Оптика Чимино — классическая романная, он и снимает по главам: до войны, во время и после, выписывая события на манер Толстого (русскими он, в целом, заинтересован). Широкими панорамами, длинными планами, роскошными избыточными сценами он противопоставляет народ и Историю, человека и Судьбу. Безумие и бессмысленность войны обнажены, но не исследована её природа, она показана, как нечто, имеющее начало и конец, нечто лежащее вне экзистенции — в этом «Охотник» проигрывает макрокосмической картине Копполы, но выигрывает в измерениях бытовых. Её катарсис — мощный эмоциональный взрыв, накопленный в долгой прелюдии архетипических воздействий. Языческая радость свадьбы, знание о рождении ребёнка, первобытная охота среди гигантской природы, проводы покойника, общее песнопение — древние стадии племенной жизни, естественное и вечное проживание временного цикла. Вмешательство противоречащих естеству сил (война — не природна), рождает судорогу соприкосновения со сверх-порядком — и беспомощность перед ним.
Одним из первых «Охотник» демонстрирует «зазеркалье» военного — а вместе с тем и трансформацию героического мифа, кризис традиционной модели силы, намекая, что остаться в живых — возможно, страшнее, чем умереть.
Размытие материи в общий материал — основная черта картины. Первая сцена — сталелитейный завод, течёт раскалённое железо, гремят механизмы. Задаётся онтология потока, в который сметёт народы История, застыв прочным рамочным изваянием больной памяти, переданной им в ношу. Центральный образ — «русская рулетка» — фатальное лишение свободы выбора, пассивность игрока перед лицом судьбы, перед пером большого Автора. Персонажи Чимино экзистенциально пассивны, потому непроницаемы. Они — единицы смирения, которого не выбирали. С них, как с пешек, снята личная ответственность за собственный путь. Они всё делают, словно лунатики, герои античной трагедии. Ощущение неловкости и невысказанности, царящей меж ними, сомнамбулизма развития их характеров не покидает. Даже симпатия к ним рождается из непогружения: скольжения по биографиям, лицам и реакциям, верхнего выхватывания сути. Скорее, это сопереживание всей ткани романа — единству героев (число множественное), но не герою (единственное число). Сопереживание не личности, а народу.
«Охотник на оленей» — выражение мира, в котором «Я» абсолютно потеряно перед «Мы», не познаёт себя и добровольно растворяется в потоке. Здесь всё общее: пролитое на свадебное платье вино, «индейское» затмение солнца, переглядки с оленем. Приметы, знамения, символы — архаическое народное сознание. Большую роль играет мифология массового обряда, религиозность различного рода (не буквальная, кроме православной свадьбы). Индивидуальности проявляются выхваченными из потока лицами, но нивелируются общей энергией, превращающих всё в коллективное тело. Свадебная вакханалия сменяется ритуализированной охотой, на которой что-то идёт не так. Майкл (Роберт де Ниро) отказывается дать другу запасные сапоги, хотя раньше давал. Простукивает нарастающая тревога: коллективное тело спасало от мыслей о собственной конечности, но механизм уже не работает, ведь близость конца «Я» неумолимо близка. И когда один из приятелей в баре играет на пианино Шопена, выражения лиц отделяются друг от друга, становятся самостными, говорящими, тронутыми своими «Я», а потому одухотворёнными.
Но это малое пробуждение разума мгновенно, резким монтажным скачком, оборачивается новым слиянием — перенесением во Вьетнам. Куда герои записались добровольцами не из личных идей и идеалов, но из той же коллективисткой бравады перед социумом, мифологизирующим фигуру военных. Портреты уходящих на фронт парней на стенах, в окружении флагов, подобны иконам, которые сияли среди свечей в православном храме — приобретая характер посмертной святости. Воинское братство американских солдат приравнивается к «пантеону», а их «подвиги» — к житиям святых. Круговое движение вознесения: чтобы стать мужчиной, нужно доказать, что любишь Отечество. Чтобы стать мужчиной с нимбом, нужно оказаться в мясорубке. Чтобы заслужить индивидуальность, нужно умереть. Хотя бы «схватить пулю». Медали и ордена — личный этический капитал, выпирающие качества, которые занимают округу. Не знающую о том, что спрятано за фасадом.
Одним из первых «Охотник» демонстрирует «зазеркалье» военного — а вместе с тем и трансформацию героического мифа, кризис традиционной модели силы, намекая, что остаться в живых — возможно, страшнее, чем умереть. Об этом заставляет задуматься глубинно изменившийся протагонист Майкл Вронский — выразитель философии фронтира, который нужно защищать, идеал мужчины по лекалам: независимый, необузданный, бесстрашный, да ещё и с загадочной русской душой. Очевидно, война перестаёт быть игрой (где мальчики возводят курок на пластмассовом оружии, а юноши — настоящие курки, чтобы убить оленя «одним выстрелом»), когда превращает тебя в объект. Классическая модель мужества отмирает с первыми слезами, разломанными телами друзей, психологическим шоком, назревающим поствоенным синдромом. Мужество теперь проявляется в принятии слабости, за которой стоит сила любви к ценности жизни — и Майкл уже не может взвести курок, чтобы ранить оленя ради идеи «победы». Фронтир начинает простираться не только вширь, но и вглубь, становится этическим, приближает к возможности самоопределения.
Военное безумие кроется не только в боях, но и в передышках, когда автоматизм витальности перестаёт спасать. Всё может привести к финалу: суровое течение вьетнамской реки; вертолёт под обстрелами, спасающий выборочно тех, кому повезло зацепиться первым; грязная изнанка сайгонских притонов, издыхающих от бессмыслицы существования; вдруг забытая дата рождения родителей; потеря места при возвращении домой; панические атаки в комнате отеля. Война — это легальный психоделик, навек изменяющий сознание. Сталкивающий с таким пониманием (или непониманием) реальности, которое делает тебя чужим и лишает дома, вырывает из массовости, спасавшей от конечности. И те, кто остался, и те, кто вернулся — несчастны, но только их диалог разрушен, им не хватает переводчика. Былая близость «Мы» недостижима, а «Я» бессмысленно и хрупко. Майкл сломлен, но пытается наладить диалог, вытаскивает друга Стивена (Джон Сэвидж) из самозабвения инвалидной коляски, но друг Ник (Кристофер Уокен) к коммуникации уже не способен. Романтик—пантеист, ездивший на охоту, чтобы полюбоваться горами вокруг, не перенёс прикосновение мирового абсурда, попав в вечную временную петлю умирания-не-умирания, а слабый Стивен сумел пережить. You never know.
В начале мужские и женские сообщества противопоставлены: мужчины в своей железно-пивной среде, женщины в розовой, рюшечной. Выделяется лишь Линда, героиня Мэрил Стрип, невеста Ника — пограничный персонаж среди миров, обладающий сложностью. Ещё противопоставлены этнические — (псевдо)русские бабки в страшной униформе: халат, платок, сапоги, причитающие о горькой доле перед флегматичным «Father». В ходе дальнейшего разворачивания событий, чем сильнее ушедшие на войну отделяются, тем теснее оставшиеся сращиваются в единство, полностью лишённое гендера, чувственности и секса. «Роман» Линды и Майкла — попытка вернуть друг другу ощущение «Мы», которое разрушила война, утешить своё экзистенциальное вопрошание (и отсутствие Ника) ясной формой. Уже нет мужчин и женщин, американцев и неамериканцев — есть болезненная магма встревоженных «Я». Фальшивое заявление корреспондентки по телевизору резюмирует: война во Вьетнаме стала «мощнейшим стержнем единения людей за всю историю США». Контрапунктом телевизионной иллюзии встаёт финальное пение гимна, чья тональность говорит о похоронах старого порядка — но готовности найти новые формы единств, потому что так проще жить.
Интересно, как актёрское существование — некоторая подавленность, вялость и инертность их взаимодействия, отсутствие напряжений и остроты — попадает в портрет сегодняшних поколений. «Мямлящих», невпопад переспрашивающих «что?», избыточно суетящихся, чтобы прикрыть боль, не дай Бог не выразить чувств, оставаться стойким, прикрываясь иронией. Это предчувствие поколения «закрытых», способных сблизиться с психотерапевтом легче, чем с близкими, добавляет финальный аккорд. Спустя 40 лет после фильма Чимино, всё, меняясь, осталось прежним. Война идёт не только между идеологиями и режимами, но и между желанием искренности — и её подавлением, между сном разума — и болью его пробуждения. Между человеком и усредняющим потоком.