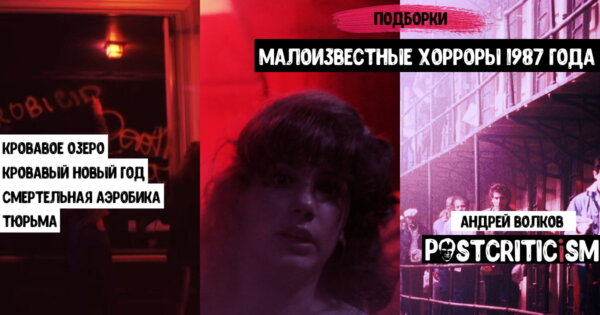Александр Мурашов дебютирует на [postcriticism] с текстом о творчестве Карлоса Сауры
В зрелом творчестве Карлоса Сауры, начиная с фильмов конца 60-ых-70-ых годов и до недавнего фильма «Я, Дон Жуан», действие определяется даже не темой театральности, а философией творчества, сложившейся под влиянием хепенинга 60-ых, представление о котором дают такие фильмы как «Партнер» Бертолуччи или «Марат/Сад» Питера Брука. Режиссер следит, как бытовая, повседневно-конвенциональная жизнь пронизывается стихией импровизационной театральности, становится спектаклем, который в свою очередь воздействует на повседневность, гротескно отражая ее и раскрывая ее тайны. Это сюжет фильмов «Нора», «Сад наслаждений», «Ана и волки», «С завязанными глазами» и других. Позднее у Сауры обыденная жизнь (о постановочности которой режиссер тоже напомнит зрителю) будет воплощаться под влиянием все той же театральности в танец и пантомиму («Колдовская любовь», «Кармен»), в оперу (“Я, Дон Жуан»).

Карлос Саура
Постановка спектакля, драматического или музыкального, — это форма, в которой режиссер осмысляет отношения между людьми в условиях профанированной или закупоренной коммуникации, «неспособности к диалогу», которую находил и находит в современной жизни. Уже это тема отношений между мужчиной и женщиной, когда женщина подыгрывает мужчине («Ана и волки») или наоборот (как в «Норе») мужчина начинает подыгрывать женщине, зашторивая окна, словно манипулируя театральным занавесом. Для Сауры, еще уже, это и высказывание о себе, об отношении режиссера к актрисе, к Джеральдин Чаплин, которая была его постоянной примой. Философия Сауры не сводится к простому повторению за Уайльдом «Дайте человеку маску — и он скажет правду», в своих фильмах 60-70-ых годов Саура предостерегает, что «жизнь подражает искусству», если дополнить один уайльдовский афоризм другим, и, что точнее, жизнь под влиянием искусства способна к непредсказуемым и фатальным переменам. Но, несмотря на фатальность, герои Сауры избирают путь театрализации и разыгрывания бытия.
Почему? Потому что «весь мир театр»? Тут появляется возможность сравнить работы Сауры с опытами французской «новой волны» — например, с фильмом «Женщина есть женщина» Годара или «Out 1: Noli me tangere» Риветта. Именно игровое поведение (а в конечном счете его фиксация — кинематограф) способствует самому движению жизни (не только и не столько ее завершению в эстетическом), потому что восходит к ее истокам — к ее обогащению в ритуале и карнавальном празднике.
Саура — режиссер нюансов. В «Норе», «Ане и волках», «Саде наслаждений» и других фильмах до падения франкистского режима Саура не только хочет говорить ненапрямую и о непрямой коммуникации, он вынужден. Это фильмы о домашней изнанке экономических успехов Испании под властью консерваторов с генералиссимусом во главе
Безусловно, это верно и для Сауры. Однако нужно учесть, что Саура — режиссер нюансов. В «Норе», «Ане и волках», «Саде наслаждений» и других фильмах до падения франкистского режима Саура не только хочет говорить ненапрямую и о непрямой коммуникации, он вынужден. Это фильмы о домашней изнанке экономических успехов Испании под властью консерваторов с генералиссимусом во главе. Завод показан лишь мимоходом в «Норе», как и в «Саде наслаждений». «Родина, семья, труд» — было написано на монетах вишистского режима, и Франко, наверное, был вполне согласен с такой заменой «Свободы, равенства и братства», более привычных на франках. Но завод у Сауры не место производительного труда, это место, где мужчины реализуются в серьезной жизни, лишенной красоты и того испанского качества, которое дало имя шведской актрисе, — garbo, аристократического изящества. Перевоплощения в «Норе» начинаются с появления старинной мебели, принадлежащей Тересе, героине Джеральдин Чаплин. У Тересы и фамилия – Мора де Манрике, отсылающая к испанскому поэту времен «осени средневековья», наиболее известное произведение которого посвящено умершему отцу. Эргономичные, постконструктивистские интерьеры и аналогичный внешний вид (отвратительный) виллы, где живут Тереса и Педро, противопоставлены этой антикварной красоте, этому старинному garbo, как эпоха индустриально-финансовой буржуазии и ее морали противопоставлена временам аристократическим с их элегантным досугом. Тереса пользуется доставкой мебели, чтобы углубиться в детские воспоминания, которые она и с ее подачи Педро разыгрывают: дочь и отец, девочка и ее приятель по играм Роберт, участники детского религиозного представления, служанки (да-да, служанки). Примеряются роли знакомых супругов, хозяйки и пса, и, наконец, да не поиграть ли нам в развод? В самоубийство? В убийство? Мнимо-счастливая пара распадается у нас на глазах, дав волю затаенной ненависти, и это как раз тот момент, в который философия Сауры осуществляется сполна: игра ли это в той игре, которой Джеральдин Чаплин и Пер Оскарссон заняты перед камерой, или действительно намерены расстаться их персонажи Тереса и Педро? Нам уже давали понять (в сюрреалистической сцене с ванной наполненной раками), что границы предполагаемой «реальности» зыбки, и фантастическое свободно смешивается с бытовым, как-бы-настоящим.
В эзоповом языке Сауры раскрытию сути происходящего служит деталь, иногда слово. В «Норе» это игрушка – муравьиная нора в коробке, своего рода кукольный дом, где происходящее втайне предоставлено наблюдению, в «Саде наслаждений» – это фонтаны Аранхуэсского дворца, воспроизводящие в реальности кино водометы с картины Босха «Сад земных наслаждений». В «Ане и волках» – слово «волки», приложенное режиссером к трем сыновьям Большой Мамы, воображающим себя военным, монахом и бизнесменом – т.е. представителями франкистской элиты. В более позднем фильме «Ходули» – сами ходули, а также мотоцикл, средства передвигаться, не касаясь земли.
И вот, при всем блеске и гротеске импровизаций, месседж фильмов Сауры времен генералиссимуса. Труд оказывается безрадостным и погруженным в уродство, материальное благополучие женщины в семье — ее смертельной скукой в условиях консервативной и чопорной «родины», где она подчинялась сначала отцу, а потом мужу, дионисийская стихия театральности спасает, но она же и убивает. В позднейших фильмах, где режиссер попытался обратиться к прямому высказыванию, его творческая философия сыграла с ним шутку: несмотря на ощутимый спад в 80-ые годы, фильмы этого периода, мелодраматизированные, ушедшие от плетения аллегорий, все равно свое эстетическое оправдание обретают в том, насколько пронизывает их глубинный смысл праздника и игры.