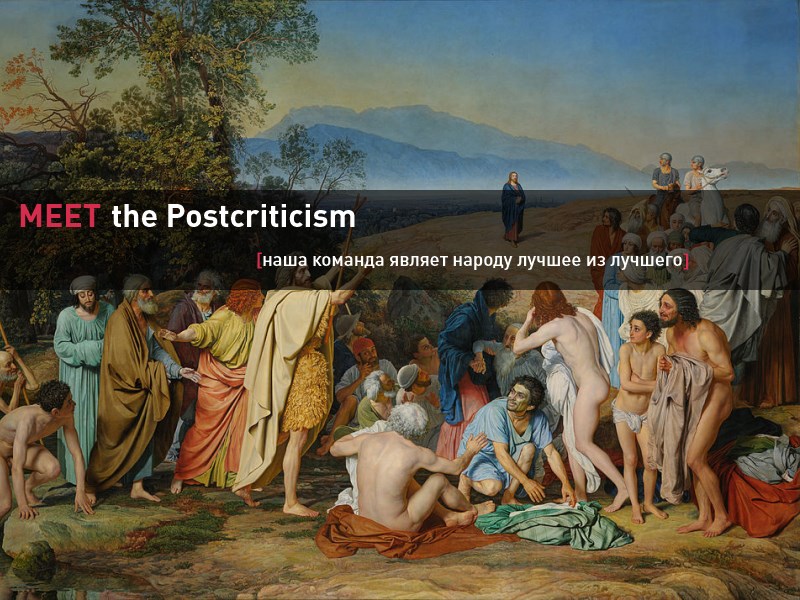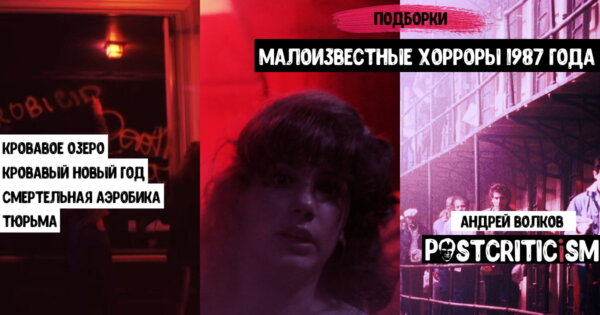Закат мертвецов
Иоахим Штерн объявляет апокалипсис делом прошлого, вспоминая укоризненный взгляд Антона Павловича Чехова
Я не совсем уверен, но, по-моему, это Джером Клапка Джером — или, по крайней мере, не менее толковый малый — сказал, что человеческая память подобна населенному нечистой силой дому, в стенах которого постоянно раздается эхо от невидимых шагов. Доложу вам, предполагаемый Джером был абсолютно прав, он попал в яблочко истым Робин Гудом, он выбил сто из ста прицельным попаданием. Не знаю, замечали вы это или нет, но, как ни крути, обыкновенно человеческая память спит Венерой Джорджоне, изредка постреливая незначительными деталями незначительных событий прошлого. Возьмите хотя бы вашего покорного слугу — я затруднюсь припомнить свое первое первое сентября, но до сих пор храню в памяти жуткий портрет Антона Павловича Чехова, мизантропическим видом своим украшающий обветшалый вестибюль пожилой школы. Я помню тот портрет в мельчайших подробностях, я помню, с какой неприязнью смотрел на школяров классик русской словесности. Воротничок, казалось, впился в его шею, и Антон Павлович излучал немой укор, словно бы утверждая, что именно мы заставили его нацепить эту чертову удавку.
Понятия не имею, как так вышло, но факт остается фактом — второго воскресенья восьмого месяца сего года я забрел в какой-то богом забытый парк величиной с полторы скамейки; мне слышался веселый хруст пустых банок под ногами, предо мной маячили чарующие виды устланных окурками лужаек, мутуализм сизого неба и печальных деревьев погружал в транс. И сизое небо это перекрестком Миллера проявилось титром призраков былого, и я вспомнил все Арнольдом Шварценеггером. Я вспомнил, как внимательно изучал морозную живопись окон, а покрывало всепобеждающей снежности накрывало город умиротворением и покоем. Я вспомнил внушающее трепет звездное небо и волшебный шелест золотых листьев золотой осени где-то в Петергофе. Я вспомнил еще много чего, но кому интересна спелеологическая экспедиция в глубины бесцветной пустоты моей биографии? It was a very good year, за полчаса до реализации сбивчивых глюков одного громоподобного рыбака.
Признаться, мне порядком надоел этот чертов фарс — отложим комические куплеты до лучших времен и станцуем на гребаных могилах гребаных мертвецов. Уличные маги объявляют интифаду, ведь спасение утопающих есть дело напрасное, душеполезнее подсобить бедолагам крепким ударом весла. Итак, конец света, языком плакатов и карикатур, поехали. Люди сведущие — религиоведы и прочие теологи — скажут вам, что via est vita, и в конце дороги человечество поджидает тот самый Апокалипсис с Новым Иерусалимом. Вся загвоздка в том, что пророчества уже полыхнули хвостом кометы сквозь синий мрак космоса, и хренов мир с его сальной копотью ухнул в жаркие домны истории. Теперь уж поздно пить Боржоми — все случилось, разноцветные кони давным-давно ускакали по своим делам, никто и не заметил. Гражданин Христос на небе пишет пульку с ангелами, нисколько не переживая по поводу этой фигни, а босховидная реальность накрылась медным тазом явления Антихриста без второго пришествия, концом света без страшного суда.
Это точка отчаяния, вырождения и деградации: околокультура гуляет около регрессивных симуляций, трепетную лань забили на мясо, а муза трудится вавилонской блудницей, раскрашивая рабочую плоскость экранов цветастой суетой
Обратимся хотя бы к «Десятидюймовому герою», фильму-эскимо, что освежает ротовую полость приторной прохладой с красителями. Кино про позитив оборачивается омертвелым расчетом, а создатели гонят фальшак душещипательным шепотом. Художница Пайпер разыскивает дочь и трудится в забегаловке для ненормальных. Раз она здесь, значит, у нее не все дома; раз она здесь, значит, не все, стопудово; а дома те, у кого все; но раз ее нет, значит, и у них не все. И коллеги художницы Пайпер — сплошняком замечательные люди не без проблем, но с богатым внутренним миром; и штампованное действие мигрирует в сторону сладенького хэппи; и очень хочется безжалостно ухайдокать всю эту братию пулеметной очередью, окропив песочек красненьким. Эклс светит чудовищно остроумными футболками, море шумит, демонически латентные геи свинячат, маленькие девочки рисуют кроликов, старый хиппи наносит ответный удар, и так далее, и тому подобное — то ли лубок, то ли венгерская порнография. Герои сравнительно бездумно бродят туда-сюда и толкают тирады про уринотерапию Папы Римского — вот и весь нарратив. Все будет ништяк, если человек душевный — вот и весь мессэдж. Вата, сахарная вата, и ничего более.
И так везде — долгая счастливая жизнь проявляется вторичными признаками клинической смерти, а культура свернулась бездонной черной дырой. Адресаты продали гитары и купили себе пальто, посмертно отпилили ноги старику Марли, разобрав того на запчасти. Адресаты закромсали искусство тупеньким ножиком, и горячая венозная кровь творчества забрызгала эмалевые стены фиолетовых рук. Почта захватила телеграф, всеобщий свальный грех майндфачит плесенью, а заунывный оркестрик исполняет бравурные марши. Эта возня не более чем подвенечный поцелуй индифферентных некроскелетов: вороны пируют, кладбищенские черви зажигают суаре, венки фальшивят неживыми цветами, и жизнь настолько чудесна, что даже неловко. Простое человеческое счастье изготовлено в подвалах рабами-азиатами, счастье посложнее гордо светит модными бирками — спасибо счастливому Сталину за наше дорогое детство, спасибо эскапистским трендам за каждый волшебный момент. Это точка отчаяния, вырождения и деградации: околокультура гуляет около регрессивных симуляций, трепетную лань забили на мясо, а муза трудится вавилонской блудницей, раскрашивая рабочую плоскость экранов цветастой суетой.
Нынче даже подорожных не требуют — кажется, публика и сама про себя знает, что она, публика, состоит из неграмотного хамья, потому подорожные как бы и ни к чему. И созидание было упразднено зубочисткой нудной жути социального заказа, и всеобщая свобода оборачивается диктатом третьесортной гадости, и оттого немного тошнит. Беда только в том, что тошнит не менее пакостным не менее вторсырьем. Аудитория циррозит, авторы трудятся пушерами, чинное потребление вакуума утвердилось альфой и омегой. Широкий ассортимент дури исключает дефицит, здесь каждый найдет себе по вкусу: сативообразная конопля плоского юморка из топора, марки фестивального инди, колумбийский насморк бессмысленной вереницы пустых развлечений, далее везде, далее всегда. Пусть вопиют камни, пусть нас корчит последним бэдтрипом, пусть затхлое кислородное голодание на адовых кайфах — этот дым нам сладок и приятен. Поэтом можешь ты не быть, негоциантом быть обязан; чтобы было гладенько и развлекательно; чтобы проходило, не задерживаясь; чтобы для умов ниже среднего; чтобы без тридцать второго мая, но с красным деревом и синим бархатом. Мельницы победили, садитесь жрать, пожалуйста
Какая у этой басни мораль? Морали нет никакой, забудьте об этом. А я посылаю все на три веселых буквы и умываю руки — feci quod potui, faciant meliora potentes. Аллюзии, реминисценции, книги, фиги, после этой истории мне больше всего захотелось, если выкарабкаюсь, пойти работать на мельницу и заткнуть наконец свою пасть. Что общего имеет Керуак с обычным, нормальным фильмом, снятым для обычного, нормального зрителя? Правильно, ничего. Спокойной ночи, малыши, Элвис покинул здание.